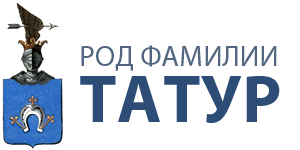¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З –Є–Ј–≤–ї–µ–Ї –Є–Ј –њ–Њ—З—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ —П—Й–Є–Ї–∞ –њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –њ–∞—З–Ї—Г –≥–∞–Ј–µ—В, —В—Г—В –ґ–µ, –љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–µ, –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї –Є—Е –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –±–µ–ї—Л–є –Ї–Њ–љ–≤–µ—А—В —Б –µ–≥–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–µ–є –Є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞–ї–∞–Љ–Є. ¬Ђ–Э–∞—Б –µ—Й–µ –њ–Њ–Љ–љ—П—В!¬ї вАУ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї¬† —Б—В–∞—А–Є–Ї, —Г–і–Є–≤–ї—П—П—Б—М –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ—З–µ—А–Ї—Г. –Ю–љ –љ–µ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –≤ –±—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —Н—В–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ –Є –≤ —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В–µ –ї–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–µ-—З—В–Њ —Г–Љ–µ–ї, –і–∞ —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ —Г–Љ–µ–ї, –Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–≥–Њ—В–Є–ї–∞—Б—М —З–µ—Б—В–Њ–ї—О–±–Є–≤–∞—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М, –Љ–µ—З—В–∞—О—Й–∞—П –Њ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —Б—В–µ–њ–µ–љ—П—Е. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –і–µ–ї–∞ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ, —И–µ–ї —В—А–µ—В–Є–є –≥–Њ–і –µ–≥–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і—Л—Е–∞, –∞ –µ–Љ—Г —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —И–µ–ї –≥–Њ–і –≤–Њ—Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В –њ—П—В—Л–є вАУ –Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ! –Ш –±–ї–Є–Ј–Ї–∞, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —З–µ—А—В–∞, —А–∞–Ј–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і—П—Й–∞—П –≤—Б–µ –Є—В–Њ–≥–Є, —А–∞–Ј–Њ–Љ –≤—Б–µ –Њ–±—А—Л–≤–∞—О—Й–∞—П. –Ю—В –љ–µ–≥–Њ, –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–µ—А–∞, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Г–ґ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –ґ–і–∞–ї–Њ. –Э–Њ –≤–Њ—В —Б—Л—Б–Ї–∞–ї–∞—Б—М –ґ–Є–≤–∞—П –і—Г—И–∞, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —А–Њ–і–љ—Л—Е, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ –≤–Є–і–µ —А–Њ—Б—В–Ї–∞ –Є–ї–Є –µ—Й–µ —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –ґ–Є–ї –Њ–љ, –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З, –Є —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ш–±–Њ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ—В–µ—З–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ –Ј–Њ–≤—Г—В –≤–µ—З–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В—М—О. –Т–µ—З–љ–∞—П! –Ф–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞—И–љ–µ–≥–Њ –і–љ—П, –і–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞—И–љ–Є—Е –≥–Њ—А—П—З–Є—Е –Є –≥—А–µ—И–љ—Л—Е –Ј–∞–±–Њ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є–Ј–±—Л—В–Њ–ЇвА¶
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Т –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–Љ —В–Є—Е–Њ–Љ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–љ –≤—Б–Ї—А—Л–ї –Ї–Њ–љ–≤–µ—А—В. –Я–Є—Б–∞–ї–∞ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –У–∞–≤—А–Є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ–Є—Б–ї–Њ–≤–∞, –µ–≥–Њ –Њ–і–љ–Њ–њ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –і–µ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї –њ—П—В–Њ–Љ –Є –і–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Б—П –і–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ю–љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–ї–∞ –Р–љ–Є—Б–Є–Љ–∞ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ј–∞ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б –і–љ–µ–Љ –Я–Њ–±–µ–і—Л, –Ј–∞ –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–µ —В–µ–њ–ї–Њ –Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ,¬† –Є–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–µ –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ. –Ш —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Є–Ј–≤–Є–љ—П–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—В—М –Є –±–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ, –љ–µ—В —Г–ґ–µ —Б—А–µ–і–Є –љ–∞—Б –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –У–∞–≤—А–Є–ї–Њ–≤–Є—З–∞, –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞. –£—И–µ–ї –Њ–љ –≤ –Њ–і–љ–Њ—З–∞—Б—М–µ, –љ–µ–і–µ–ї–Є –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–ї –і–Њ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –≤–Њ—Б—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ф–µ–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Љ–∞—П. –Э–Є—З—В–Њ –љ–µ –њ—А–µ–і–≤–µ—Й–∞–ї–Њ –±–µ–і—Л, –љ–Њ, –≤–Є–і–љ–Њ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–≥–Њ –Т–∞—Б—П –≤ —Б–µ–±–µ –і–µ—А–ґ–∞–ї, –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –±–Њ–ї—П—З–Ї–∞–Љ–Є.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬Ђ–Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ –µ–≥–Њ, –∞ —П –±—Г–і—Г –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –≤–∞—Б. –Я–Є—И–Є—В–µ, –Є —П –±—Г–і—Г –≤–∞–Љ –њ–Є—Б–∞—В—М¬ї, — —З–Є—В–∞–ї –Њ–љ —А–Њ–≤–љ—Л–µ, —Г–±–Њ—А–Є—Б—В—Л–µ —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є. –Т–і—А—Г–≥ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –≤–Є–і–µ—В—М –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З, –љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї —Б–Ї–∞—В–Є—В—М—Б—П —Б–ї–µ–Ј–µ. –Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –Є—Е –±—Л–ї–Њ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –і–≤–∞ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л. –Ш –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л, –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–Є–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л, –Њ–љ–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ, –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –љ–∞ –Ф–µ–≤—П—В–Њ–µ –Љ–∞—П, –∞ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М —Г–ґ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –љ–µ–њ–Њ–ї–љ—Л–Љ. –Т –≤–Њ—Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В —Б–µ–і—М–Љ–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –Є—Е –±—Л–ї–Њ –µ—Й–µ —Б–µ–Љ–µ—А–Њ, –≤ –і–µ–≤—П–љ–Њ—Б—В–Њ –≤–Њ—Б—М–Љ–Њ–Љ вАУ —З–µ—В–≤–µ—А–Њ. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Г—И–ї–Є –Я–∞—И–∞ –§–µ–і–Њ—А—З—Г–Ї –Є –Р–Ј–Є–Ј –Р–±–і—Г–ї–ї–∞–µ–≤. –Р —В–µ–њ–µ—А—М –Є –Т–∞—Б–Є–ї—М–Ї—Г –љ–µ –љ—Г–ґ–љ—Л –±–Њ–ї–µ–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ю–љ –Њ—З–µ–љ—М —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—Й—Г—В–Є–ї –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М —З–µ—А—В—Л –Є —А–∞–Ј–≤–µ—А—Б—В–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Ј–∞ –љ–µ—О, —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ, –±–µ—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї —Б–µ–±—П —Г —Н—В–Њ–є —З–µ—А—В—Л. –•–Њ—З–µ—И—М, –љ–µ —Е–Њ—З–µ—И—М, –∞ –њ–Њ—А–∞. –°–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –≤ —А–∞–і–Њ—Б—В—М — –љ–Є —Б–µ–±–µ, –љ–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ю–љ –њ–µ—А–µ–і–Њ—Е–љ—Г–ї. –Ю—В–Ї–ї—О—З–Є–ї—Б—П, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–і–∞—П, –њ–Њ–Ї–∞ —Б–Є—А–µ–љ–µ–≤—Л–є —В—Г–Љ–∞–љ –њ–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —А–∞—Б—Б–µ–µ—В—Б—П. –£–≤–Є–і–µ–ї —Б–µ–±—П –Є –Т–∞—Б–Є–ї—М–Ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Є—Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ–і –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ–µ–Љ –≤ –Ј–Є–Љ—Г –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. –°–≤–µ–ґ–µ–Є—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Л –Є–Ј –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –Њ–љ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ–і–љ—Г —Б–∞–њ–µ—А–љ—Г—О –±—А–Є–≥–∞–і—Г. –Ш–Ј —Б–Є–љ–Є –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є, –Є–Ј –њ–µ—А–≤–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –Ј–Є–Љ–љ–µ–є –≥–Њ–ї—Г–±–Є–Ј–љ—Л –≤—Л–љ—Л—А–љ—Г–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л, —Б–њ–Є–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є, –≥—Г—Б—В–Њ —Б—Л–њ–∞–љ—Г–ї–Є –±–Њ–Љ–±—Л. –Ы–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Л –±—А—П–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤ —Б–љ–µ–≥. –Ш —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –љ–∞–і —Б–Њ–±–Њ–є –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Є–є –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б: ¬Ђ–Ф—П–і–µ–љ—М–Ї–Є, –љ–µ –±–Њ–є—В–µ—Б—М, —Н—В–Њ –љ–µ –љ–∞—И—Г —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –±–Њ–Љ–±—П—В, —Н—В–Њ —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є –±–Њ–Љ–±—П—В, —Н—В–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В—Б–µ–і–Њ–≤–∞!¬ї
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ю–љ–Є –≤—Б—В–∞–ї–Є, –Њ—В—А—П—Е–љ—Г–ї–Є—Б—М. –Я–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ–Є —Б—В–Њ—П–ї –њ–∞—А–µ–љ–µ–Ї –ї–µ—В –і–µ—Б—П—В–Є, –±—Л–≤–∞–ї—Л–є-–±—Л–≤–∞–ї—Л–є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ–Є —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–∞–і–∞—В—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–ґ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –≤ –љ–µ–µ –і–Њ –њ–Њ—Б–Є–љ–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≥—В–µ–є. –Ш –і–Њ–ї–≥–Њ –µ—Й–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–µ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З, –Ј–∞—Б–ї—Л—И–∞–≤ –≥—Г–ї –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—В–Њ—А–Њ–≤, –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—Л—Б–Ї–Є–≤–∞–ї –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Њ–ґ–±–Є–љ–Ї—Г –ї–Є, –∞—А—Л–Ї, –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–є –і–Њ–±–µ–ґ–∞—В—М –Є —Г–њ–∞—Б—В—М –≤ —Н—В–Њ —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г–Ї—А—Л—В–Є–µ, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –љ–∞—З–љ–µ—В –Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –Ї—А—Л–ї–Њ. –Э–Њ –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞–Љ –љ–µ–Ј–∞—З–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –Ї—А—Л–ї–Њ –Є —Б—Л–њ–∞—В—М –≤–љ–Є–Ј –±–Њ–Љ–±—Л.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Р —В–Њ–≥–і–∞ –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З —Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –У–∞–≤—А–Є–ї–Њ–≤–Є—З–∞, –∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –У–∞–≤—А–Є–ї–Њ–≤–Є—З —Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Р–љ–Є—Б–Є–Љ–∞ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З–∞, –љ–Њ –Њ–љ–Є —В–∞–Ї –Є –љ–µ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Є, –Ї—В–Њ –ґ–µ –њ–µ—А–≤—Л–є –±—А—П–Ї–љ—Г–ї—Б—П –≤ —Б–љ–µ–≥, –њ–Њ–і–∞–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–Ї –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–µ–±—П –њ—А–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л—Е –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–µ–є, –Є –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞ —З–µ—А–µ–Ј –Ф–љ–µ–њ—А вАУ –љ–∞–і –љ–∞—Б—В–Є–ї–Њ–Љ —В–µ—З–µ—В —Б–∞–љ—В–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –≤–Њ–і—Л, –Є –Љ–Њ—Б—В –љ–µ –≤–Є–і–µ–љ —Б –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞, — –Є –њ—А–Є —А–∞–Ј–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–µ—А—Д–µ–є, –Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ—Б—В—А—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–њ–µ—А—Г –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Њ¬† –Њ—И–Є–±–∞—В—М—Б—П. –Э–Њ –Њ–љ–Є —З–∞—Б—В–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –Ј–Є–Љ–љ—О—О —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –±–ї–Є–Ј –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ–∞, –Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л, –Є –љ–µ–±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ –±–Њ–Љ–±–Њ–≤—Л–µ —А–∞–Ј—А—Л–≤—Л, –Є –≥–Њ–ї–Њ—Б –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞: ¬Ђ–Ф—П–і–µ–љ—М–Ї–Є, –≤—Б—В–∞–≤–∞–є—В–µ!¬ї –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Њ–і–Є–љ. –Р –і–∞–ї—М—И–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, –љ–Є –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –•–Њ—В—П, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–≤ –µ—Й–µ –љ–µ –µ—Б—В—М –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є. –°—Л–љ –Є –і–Њ—З—М –±—Г–і—Г—В –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, –Њ–љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –ґ–∞–і–љ–Њ –≤–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Њ –≤–Њ–є–љ–µ, –Ј–∞–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –≤ –Ї—А–Њ–≤–∞—В—М –Є —Г–Љ–Њ–ї—П–ї–Є: ¬Ђ–Я–∞–њ–∞, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–є, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–є!¬ї
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З –њ–µ—А–µ—З–Є—В–∞–ї –њ–Є—Б—М–Љ–Њ. –С–µ—Б—Е–Є—В—А–Њ—Б—В–љ—Л–µ, –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ, –љ–µ–≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Р –±–Њ–ї–Є, –±–Њ–ї–Є –≤ –љ–Є—Е —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ! –Э–µ—В, –ґ–Є–Ј–љ–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –Њ–љ–Є –љ–µ —Б–њ–∞—Б–∞–ї–Є, –љ–Њ –Є –љ–µ –њ—А—П—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ. –Ц–Є–Ј–љ—М –љ–∞—Г—З–Є–ї–∞ –Є—Е —З–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ—Б—В–Є —Б–≤–Њ—О –љ–Њ—И—Г, –Є —В–∞–Ї–Є–Љ вАУ —З–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ—Б—Г—Й–Є–Љ —Б–≤–Њ—О –љ–Њ—И—Г вАУ –Њ–љ –Є –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Ъ–Є—Б–ї–Њ–≤–∞. –Т–∞—Б—О-–Т–∞—Б–Є–ї—М–Ї–∞. –Э–Њ –Ї–Њ–Љ—Г –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–µ—И—М! ¬Ђ–Т–µ—З–љ–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М!¬ї вАУ –Њ–њ—П—В—М –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Њ–љ –Є —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П, –ґ–∞–ї–Ї–Њ –Є –≥–Њ—А—М–Ї–Њ, –Ї–Њ—Й—Г–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П. –Ю–љ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ ¬Ђ–≤–µ—З–љ–∞—П¬ї –њ–∞–Љ—П—В—М –≤ –љ–∞—И–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –≤—Б–µ –Њ–±–µ–Ј–ї–Є—З–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ, –Ї–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –≠—В–Њ вАУ –њ–∞–Љ—П—В—М –і–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞—И–љ–µ–≥–Њ –і–љ—П, –і–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞—И–љ–Є—Е —А–µ–Ј–Ї–Є—Е –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Њ–≤. –Ш –≤–Њ—В —Г–ґ–µ –≤–∞–Ї—Г—Г–Љ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ, –Є –Љ–µ–ї—М–Ї–љ–µ—В –Ї–∞–Ї-–љ–Є–±—Г–і—М –≤—Б–њ–ї–µ—Б–Ї: ¬Ђ–С—Л–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАУ –љ–µ –љ–∞–Љ —З–µ—В–∞¬ї вАУ –Є –њ–Њ–≥–∞—Б–љ–µ—В. –Ш –љ–µ—В —Г–ґ–µ –љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ –љ–µ–Љ. –Ш –≤–µ–і—М –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ–µ—И—М, –љ–µ –њ–Њ–њ–Є—И–µ—И—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М. –С—Л–≤–∞–µ—В, –Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —Б—В–Њ–Є—В –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л–є, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є вАУ –≤—Б–µ —З–µ—Б—В—М –њ–Њ —З–µ—Б—В–Є, –њ—А–Є–ї–Є—З–Є—П —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ—Л, –∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М. –Ъ—А—Г–≥–Њ–≤–µ—А—В—М –±—Л—Б—В—А–Њ—В–µ–Ї—Г—Й–∞—П —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤—Б–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В –Є —Е–Њ—А–Њ–љ–Є—В –ї—О–і–µ–є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Е–Њ—А–Њ–љ–Є—В –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –љ–Є—Е. –Ш –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ —В—Г—В –љ–Є –≤ —З–µ–Љ –љ–µ —Г–њ—А–µ–Ї–љ–µ—И—М, –Є–±–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М.¬†¬†¬†¬†¬†
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –Р–љ–Є—Б–Є–Љ—Г –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З—Г. –Ц–µ–љ–∞ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ —В—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —З–µ—А—В—Л, —Б—Л–љ –Є –і–Њ—З—М –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є—П—Е, –µ–Љ—Г –Љ–∞–ї–Њ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л—Е. –Э–µ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї–Є, —Б—Л–љ –і–∞–ґ–µ –ґ–Є–ї –њ–Њ–і –Њ–і–љ–Њ–є —Б –љ–Є–Љ –Ї—А—Л—И–µ–є, –љ–Њ –Є –љ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–ґ–і–µ вАУ –≤ –µ–≥–Њ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—Г—В–µ–є-–і–Њ—А–Њ–≥. –Ф—А—Г–Ј–µ–є —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ. –Я–Њ—Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Њ–љ–Є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –±–µ–Ј —Б–ї–Њ–≤ –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є—П. –Ш –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А–Ј–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, –њ—А–Є—В–∞–Є–≤—И–Є—Б—М –Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї –њ—А—Л–ґ–Ї—Г, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ–±—Л—В–Є–µ. –Т —З–µ–Љ-—В–Њ –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є —В–∞–Ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬Ђ–Т–∞—Б–µ–љ—М–Ї–∞ —В—Л –Љ–Њ–є –Љ–Є–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є!¬ї вАУ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –Њ–љ –љ–∞—А–∞—Б–њ–µ–≤. –Ю—В–≤–µ—В–Њ–Љ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ. –Ф–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –µ–Љ—Г, –Є, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П —Б–∞–Љ —Б —Б–Њ–±–Њ–є, –Њ–љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–ї —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–∞. –Ю–љ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї —И–Ї–∞—Д—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є, –і–Њ—Б—В–∞–ї –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –њ–µ—Б–µ–љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В, –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л–≤–∞—В–µ–ї—М, –љ–∞ —В—П–ґ–µ–ї—Л–є —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Є—Б–Ї —Б –љ–∞–Ї–ї–µ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–≤–µ—А—Е—Г —Б–µ—А—Л–Љ —Б—Г–Ї–љ–Њ–Љ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –і–Є—Б–Ї –њ–ї–∞—Б—В–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–є, —З–µ—А–љ—Л–є, –Є –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ. –Р–ї–Љ–∞–Ј–љ–∞—П –Є–≥–ї–∞ –Љ—П–≥–Ї–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–∞—Б—М –≤ –±–ї–µ—Б—В—П—Й—Г—О –±–Њ—А–Њ–Ј–і—Г. –Т–Њ–Ј–і—Г—Е —Б–Њ–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї—Б—П –Њ—В –Љ–Њ–≥—Г—З–Є—Е –∞–Ї–Ї–Њ—А–і–Њ–≤. –Т–Ї–ї—О—З–Є–ї—Б—П —Е–Њ—А, –і—Г—И–∞ –Р–љ–Є—Б–Є–Љ–∞ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З–∞ –≤–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї–∞ –Є –Ј–∞—В—А–µ–њ–µ—В–∞–ї–∞, –Є –Њ–љ –Њ—Й—Г—В–Є–ї —Б–µ–±—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞–і –Ј–µ–Љ–ї–µ–є, —В–∞–Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ –µ–µ —В–µ–њ–µ—А—М –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї–∞ –Є –Њ—В –љ–µ–≥–Њ:
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Т—Б—В–∞–≤–∞–є, —Б—В—А–∞–љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П!
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Т—Б—В–∞–≤–∞–є –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є –±–Њ–є!
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –° —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є —В–µ–Љ–љ–Њ—О,
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –° –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ—О –Њ—А–і–Њ–є!
        
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Я—Г—Б—В—М —П—А–Њ—Б—В—М –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–∞—П
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Т—Б–Ї–Є–њ–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–ї–љ–∞!¬†
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ш–і–µ—В –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П,
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞!
                         
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э–Є—З—В–Њ —В–∞–Ї –љ–µ —Б–ї–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г –љ–µ–≥–Њ —Б –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –Ї–∞–Ї —Н—В–∞ —В—П–ґ–µ–ї–∞—П, –≤—Б–µ–њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—О—Й–∞—П –њ–µ—Б–љ—П. –°—В–∞–ї—М–љ–∞—П –њ—А—Г–ґ–Є–љ–∞ –љ–µ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–∞ –≤ —Н—В–Њ–є –њ–µ—Б–љ–µ, –Є –≤–Њ–ї–Є, –Є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞, –Є –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≤ –і–Њ—А–Њ–≥—Г –і–∞–ї—М–љ—О—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ –≤—Б–µ—Е, –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В –њ–Њ–і –Њ—В—З–Є–є –Ї—А–Њ–≤. –°–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –±—Л–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї—Г–њ–ї–µ—В –Є –њ—А–Є–њ–µ–≤ –Є —Б–∞–Љ–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞, —А–Њ–і–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–љ–Є –≤–Њ–є–љ—Л, –љ–∞ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ –і—Л—Е–∞–љ–Є–Є –і–≤—Г—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –њ–Њ—Н—В–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞. –Э–Њ —Г–ґ –≤ –љ–Є—Е –±—Л–ї–∞ –≤—Б–µ–Њ–±—К–µ–Љ–ї—О—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞, –њ–Њ–≤–µ–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ј–Њ–≤ –†–Њ–і–Є–љ—Л-–Љ–∞—В–µ—А–Є, –Ј–Њ–≤ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —Б–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М—Б—П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э–∞–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М —Б–ї–µ–Ј—Л. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Н—В–Њ –±—Л–ї —А–µ–Ї–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї–∞–Љ, —Г—И–µ–і—И–Є–Љ –Њ—В –њ—Г–ї—М –Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є. –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З —Б–ї—Г—И–∞–ї —Б—В–Њ—П, –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–љ—Л–є. –Я—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –≤–Њ—Б—М–Љ–Є –ї–µ—В –Љ–Є—А–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї–∞–Ї –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ. –Я–Њ–ї—Л—Е–∞–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Ј–µ–Љ–ї—П –і—А–Њ–ґ–∞–ї–∞ –Њ—В –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤, –≥—А–µ–Љ–µ–ї–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П, —А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –њ—Г–ї–Є, –≤—П–Ј–ї–∞ –≤ —Б–љ–µ–≥–∞—Е, –≤ –≥—А—П–Ј–Є, –≤ –њ—Л–ї–Є –њ–µ—Е–Њ—В–∞. –Я–Њ–ї—П —Г—Б—В–Є–ї–∞–ї–Є —В–µ–ї–∞ –њ–∞–≤—И–Є—Е, –Є –≤—А–∞–≥ —Г–ґ–µ –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї —В–Њ–≥–Њ, —Б —З–µ–Љ –Ї –љ–∞–Љ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї –±–µ–Ј –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П вАУ —В–Њ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ф–∞, —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –њ–µ—Б–љ—П. –Х–µ –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ–Љ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є. –Я—А–∞–≤–µ–і–љ–∞—П –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М –≤–Њ–љ–Ј–∞–ї–∞—Б—М, –≤–≤–Є–љ—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –µ–≥–Њ —Б—В–µ—А–ґ–љ–µ–Љ, –Є –Њ–љ —И–µ–ї –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥, –Є –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–ї. –Ш–ї–Є –њ–∞–і–∞–ї, –Є –Ј–µ–Љ–ї—П –≤–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤—М. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ вАУ –Є –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–ї–Є. –Ш–±–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, –њ–Њ–і–љ—П–≤—И–µ–є—Б—П –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–є –±–Њ–є, –љ—Г–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–±–µ–і–∞.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –У–љ–Є–ї–Њ–є —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –љ–µ—З–Є—Б—В–Є
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ч–∞–≥–Њ–љ–Є–Љ –њ—Г–ї—О –≤ –ї–Њ–±.¬†¬†
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ю—В—А–µ–±—М—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –°–Ї–Њ–ї–Њ—В–Є–Љ –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–є –≥—А–Њ–±!
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Я—Г—Б—В—М —П—А–Њ—Б—В—М –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–∞—П
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Т—Б–Ї–Є–њ–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–ї–љ–∞!
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ш–і–µ—В –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П,
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞!
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ч–∞–≥–љ–∞–ї–Є, –Ј–∞–≥–љ–∞–ї–Є –њ—Г–ї—О –≤ –ї–Њ–± –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –љ–µ—З–Є—Б—В–Є, –Є —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Г—О –љ–µ –ї–µ–Ј–µ—В –љ–∞ –љ–∞—Б –љ–Є–Ї—В–Њ, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З. –С–Њ—П—В—Б—П. –•–Њ—В—П –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ–ґ–µ–≤–∞–љ–Є–µ, –Љ–∞–ї–Њ –Ї–µ–Љ –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–љ–љ–Њ–µ, –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ, –∞ –≤—Б–µ —Б–Њ—О–Ј–љ—Л–µ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є —Б—В–∞–ї–Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –С–Њ—П—В—Б—П —Г–ґ–µ –њ–Њ –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Є –Є –љ–µ –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Г—О, –≤—В–Є—Е—Г—О –њ–∞–Ї–Њ—Б—В—П—В. –≠—В–Њ –µ—Б—В—М, –Є —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В, –њ—А–Є—А–Њ–і—Г —Б–Є–ї—М–љ—Л—Е –Љ–Є—А–∞ —Б–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–µ—А–µ–Ї—А–Њ–Є—И—М. –Р –њ–ї–∞–љ–µ—В–∞ —Г –љ–∞—Б –Њ–і–љ–∞. –Ш —Б–љ–Њ–≤–∞ –Є–Ј –і–љ—П —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–≥–Њ, –Є–Ј —В–Є—И–Є–љ—Л, —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–Є–≤—И–µ–є –Љ–Њ–≥—Г—З–Є–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –∞–Ї–Ї–Њ—А–і—Л –њ–µ—Б–љ–Є-–њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞, –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З —И–∞–≥–љ—Г–ї –≤ –љ–∞–Ї–∞–ї –Є –≥—А–Њ—Е–Њ—В –Љ–Є–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ, –≤ –±–Њ–є, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –љ–Њ–≤—Л–є –і–µ–љ—М –±—Л–ї —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –Є –љ–∞–≥—А–∞–і–Њ–є. –Ш–±–Њ –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Њ–љ –љ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ю–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –±–ї–Є–љ–і–∞–ґ, –Є —Б—В–Њ–ї –Є–Ј –њ—Г—Б—В—Л—Е —П—Й–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є, –Є —И–Є–љ–µ–ї—М, –њ–Њ—Б—В–ї–∞–љ–љ—Г—О –љ–∞ —П—Й–Є–Ї–Є –њ–Њ–і–Ї–ї–∞–і–Ї–Њ–є –≤–≤–µ—А—Е вАУ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Б–Ї–∞—В–µ—А—В–Є, –Є —Б–≤–µ—В–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е¬† —П—А–Ї–Є–Љ –Є —З–∞–і–љ—Л–Љ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ –≥–Њ—А–µ–ї –Љ–µ–ї–Ї–Њ –љ–∞–Ї—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–є —В–Њ–ї. –≠—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–±—А–∞ –≤—Л–Ї–Њ–≤—Л—А–Є–≤–∞–ї–Є –Є–Ј —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л—Е –Љ–Є–љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –Ш —Г–≤–Є–і–µ–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —И–Є–љ–µ–ї–Є ¬Ђ—И–њ—А–Є–љ–≥–µ—А-–Љ–Є–љ—Г¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А—Л–≥–∞—О—Й—Г—О –Љ–Є–љ—Г. –§–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї—Г—О –љ–Њ–≤–Є–љ–Ї—Г, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–љ—Г—О –њ—А–Є –Њ—В—Е–Њ–і–µ –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –Њ—В –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –Х–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М —Н—В—Г –і–Є–Ї–Њ–≤–Є–љ–Ї—Г –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О –њ–Њ –µ–µ –Њ–±–µ–Ј–≤—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—О.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э–∞ –≤–Њ–є–љ–µ –≤—Б–µ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ —Г–Љ–µ—В—М —Б–Њ–ї–і–∞—В, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Г–Љ–µ—В—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А. –Х—Б–ї–Є –±—Л —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —Г –љ–µ–≥–Њ, –≤—В–Њ—А—Л–Љ, —Г–ґ–µ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –±–ї–Є–љ–і–∞–ґ–µ, –Ї —Н—В–Њ–є –ґ–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї –±—Л¬† –Т–∞—Б–Є–ї–µ–Ї. –≠—В–Є –Љ–Є–љ—Л –љ–µ–Љ—Ж—Л –Ј–∞—А—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О —Г –Њ–±–Њ—З–Є–љ –і–Њ—А–Њ–≥ –Є —В—А–Њ–њ–Є–љ–Њ–Ї –Є –љ–∞—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ—З–Ї—Г. –Т –њ—Л–ї–Є, –≤ –≥—А—П–Ј–Є –µ–µ –Є –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ. –°–Њ–ї–і–∞—В —Ж–µ–њ–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–∞ –љ–µ–µ, –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Г—О, —Г—Б–Є–ї–Є–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В—Б—П –≤–Ј—А—Л–≤–∞—В–µ–ї—О, –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞—А—П–і –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В –Љ–Є–љ—Г –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В—Г –і–≤—Г—Е –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ш —В–Њ–≥–і–∞ —Б—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –≤—В–Њ—А–Њ–є –≤–Ј—А—Л–≤–∞—В–µ–ї—М, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є, –Є –Њ–≥–љ–µ–љ–љ—Л–є —И–∞—А —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Є–і—Г—Й–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Т–µ–µ—А –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –≤—Л–Ї–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –≤—Б–µ –њ–Њ–і—З–Є—Б—В—Г—О. –Ф—М—П–≤–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ. –Ш –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З —Б–Є–і–µ–ї –Є –Ї–Њ–ї–і–Њ–≤–∞–ї –љ–∞–і —Н—В–Њ–є —И—В—Г–Ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є, –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П, —З—В–Њ –Ї —З–µ–Љ—Г, –Є —Г—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –≤–Њ–ї–Є —Г–љ–Є–Љ–∞—П –Ї–Њ–≤–∞—А–љ—Г—О –і—А–Њ–ґ—М –њ–∞–ї—М—Ж–µ–≤. –≠—В—Г –Љ–Є–љ—Г –Њ–љ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –£ —Б–Љ–µ—А—В–Є –±—Л–ї–Є —В—Г—Б–Ї–ї—Л–µ —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –њ—А—Л–≥–∞—О—Й–µ–є –Љ–Є–љ—Л, –Љ–Є–љ—Л-–ї—П–≥—Г—И–Ї–Є. ¬Ђ–®–њ—А–Є–љ–≥–µ—А-–Љ–Є–љ—Л¬ї.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї —Б–µ–±—П –≤ —Б—Л—А—Л—Е, —Б—Г–Љ—А–∞—З–љ—Л—Е –Є –≥—А—П–Ј–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–∞–ї–∞—Е –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–µ—А—Д–µ–є. –Х–≥–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї–Є –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л, –∞ –Њ–љ –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї —Б—В–µ–љ—Л –Љ–Є–љ–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В—М. –Т–µ–і—М –Њ–љ –Є –µ–≥–Њ –ї—О–і–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Є –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞–і–њ–Є—Б—М ¬Ђ–Я—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Њ, –Љ–Є–љ –љ–µ—В¬ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Њ–±–Љ–∞–љ—Г–ї–∞. –°–Њ–ї–і–∞—В—Л —Г—И–ї–Є –≤–њ–µ—А–µ–і, –∞ –Њ–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –њ–Њ—А—В—А–µ—В –°—В–∞–ї–Є–љ–∞. –§–∞—И–Є—Б—В—Л вАУ –Є –љ–µ —Б–Њ—А–≤–∞–ї–Є, –љ–µ –≤—В–Њ–њ—В–∞–ї–Є –≤ –≥—А—П–Ј—М! –Я–Њ—А—В—А–µ—В –≤–Є—Б–µ–ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ, –Є –Њ–љ –њ–Њ–і–Ї–∞—В–Є–ї –њ—Г—Б—В—Г—О –±–Њ—З–Ї—Г, –≤—Б—В–∞–ї –љ–∞ –љ–µ–µ, –і–Њ—В—П–љ—Г–ї—Б—П –і–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞, —Б–љ—П–ї вАУ –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї —Б–≤–µ–ґ—Г—О —И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–Ї—Г. –Ю–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї —Б–Њ–ї–і–∞—В, —В–µ –≤—Б–µ –њ–Њ–љ—П–ї–Є, –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Г. –Ю–љ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–ї —Г—Е–Њ –Ї –∞–ї–µ–±–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї—Г. –Ґ–Є–Ї–∞–ї–Є —З–∞—Б—Л, –Ј–∞–Љ—Г—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≤–Ј—А—Л–≤—З–∞—В–Ї–Њ–є. –Ю–±—Л—З–љ—Л–є –±—Г–і–Є–ї—М–љ–Є–Ї. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ —З–∞—Б–Њ–≤–∞—П —Б—В—А–µ–ї–Ї–∞ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П —Б –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–є, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–≤–Њ–љ–Ї–∞ –Ј–∞–Љ—Л–Ї–∞–µ—В—Б—П —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ–њ—М. –Т–Ј—А—Л–≤, –Є –≤—Б–µ –ї–µ—В–Є—В –Ї —З–µ—А—В–Њ–≤–Њ–є –±–∞–±—Г—И–Ї–µ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ю–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї —Б–Њ–ї–і–∞—В, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В–Њ—Б–ї–∞–ї –≤ –Њ—Ж–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ. –Т —В–∞–Ї–Њ–Љ —Д—Г–≥–∞—Б–µ –≤—А–∞–≥ –Љ–Њ–≥ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В –љ–µ–Є–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞–µ–Љ–Њ—Б—В–Є. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–і–∞—А–Њ–≤ –ї–Њ–Љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б–≤–µ—В —Д–Њ–љ–∞—А–Є–Ї–∞ –≤—Л—Е–≤–∞—В–Є–ї –Љ–µ—А–љ–Њ —В–Є–Ї–∞—О—Й–Є–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ. –Ш –њ–µ—А–≤–Њ-–љ–∞–њ–µ—А–≤–Њ –Ј–∞—Г—З–µ–љ–љ—Л–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —З–∞—Б–Њ–≤–∞—П —Б—В—А–µ–ї–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —Б –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—В–≤–µ–і–µ–љ–∞ –љ–∞–Ј–∞–і. –Ф–∞, –≤ —В–Њ—В —А–∞–Ј –≥–ї–∞–Ј–∞ —Г —Б–Љ–µ—А—В–Є –±—Л–ї–Є —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ вАУ –і–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Б—В—А–µ–ї–Њ–Ї –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Љ–Є–љ—Г—В. –Р –љ–∞ –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Р–і–Њ–ї—М—Д–∞ –Њ–љ –±—Л –љ–µ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –Х–≥–Њ —А–µ–±—П—В–∞ –Њ–±–µ–Ј–≤—А–µ–і–Є–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ —И–µ—Б—В—М —Д—Г–≥–∞—Б–Њ–≤, –∞ —А–µ–±—П—В–∞ –Ъ–Є—Б–ї–Њ–≤–∞ вАУ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ –Љ–µ–љ—М—И–µ. –Ш–ї–Є –љ–∞ –Њ–і–Є–љ –±–Њ–ї—М—И–µ? –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Н—В–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Э–∞ –≤–µ—А—Д—П—Е —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –љ–Є –Њ–і–Є–љ —Д—Г–≥–∞—Б, –Є –Є—Е –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ-—Б–∞–њ–µ—А–љ–∞—П –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–∞—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ —В–∞–Ї –Є –љ–µ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ. –•–Њ—В–µ–ї, –љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Р —Б–Њ —Б—В–∞–њ–µ–ї–µ–є —Н—В–Є—Е –≤–µ—А—Д–µ–є —Б–Њ—И–µ–ї –≤–µ—Б—М –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є–є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –Є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ю–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –≥–Њ—А–Њ–і-–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –С—А–µ—Б–ї–∞—Г –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Я—А—Г—Б—Б–Є–Є, –Є —П—А–Њ—Б—В–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –≤—А–∞–≥–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є–Є –С–µ—А–ї–Є–љ–∞, –Є –≤–Ј—П—В—Л–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —В—А–Њ—Д–µ–µ–≤ —В–∞–љ–Ї–µ—В–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ –Ї–∞–±–µ–ї—О. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –љ–µ–Љ—Ж—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Є—Е –і–ї—П —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Т–∞—А—И–∞–≤—Л. –Э–∞—З–Є–љ—П–ї–Є –≤–Ј—А—Л–≤—З–∞—В–Ї–Њ–є –Є –њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є –љ–∞ –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–Є–µ –њ–Њ–ї—П–Ї–Є –≤–µ–ї–Є –Њ–≥–Њ–љ—М. –Ґ–∞–љ–Ї–µ—В–Ї–∞ —Г–њ–Є—А–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –і–Њ–Љ, –Ј–∞—А—П–і —Б—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї, –Є —Б—В—А–µ–ї—П—В—М —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г. –Т–∞—Б—П-–Т–∞—Б–Є–ї–µ–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї—Б—П —Б —Н—В–Є–Љ–Є —В–∞–љ–Ї–µ—В–Ї–∞–Љ–Є, –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–љ—П–ї, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Ї–љ–Њ–њ–Ї–Є –і–ї—П —З–µ–≥–Њ, –Є –Њ–љ–Є –њ–Њ–і–∞–≤–Є–ї–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є —В–∞–љ–Ї–µ—В–Ї–∞–Љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Њ—З–∞–≥–Є —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Э–∞–≥—А—Г–Ј—П—В —В–Њ–ї–Њ–Љ –Є –њ—Г—Б—В—П—В –љ–∞ —В–Њ–ї—Б—В–Њ—Б—В–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ–Љ,¬† –Є–Ј—А—Л–≥–∞—О—Й–Є–є –Њ–≥–Њ–љ—М. –Ъ–∞–Ї–Њ–є –љ–µ–Љ—Ж—Л –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —В–∞—А–∞—А–∞–Љ! –°—В—А–µ–ї—П–ї–Є –њ–Њ —В–∞–љ–Ї–µ—В–Ї–µ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Э–Њ —В–∞–љ–Ї–µ—В–Ї–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П, –µ–є —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–µ –і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Т–Њ—В –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–µ—В –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Љ–µ—А—В–≤–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞. ¬Ђ–І—В–Њ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–µ–ї–∞–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї?¬ї вАУ –≤–Њ–њ—А–Њ—И–∞–ї —Б—Л–љ. ¬Ђ–°–њ–∞—Б–∞–ї—Б—П –±–µ–≥—Б—В–≤–Њ–Љ!¬ї — –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –Њ–љ, –Ї –≤—П—Й–µ–Љ—Г —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—О –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞. –Х—Й–µ –Љ–Є–љ—Г—В–∞, –≤–Ј—А—Л–≤, –Є –љ–∞—И–∞ –њ–µ—Е–Њ—В–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –і—Л–Љ—П—Й–Є–µ—Б—П —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В –Њ–љ–Є —В–Њ–≥–і–∞ —Б–±–µ—А–µ–≥–ї–Є?
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З –Њ–њ—П—В—М –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –∞–ї–Љ–∞–Ј–љ—Г—О –Є–≥–ї—Г –љ–∞ —З–µ—А–љ—Л–є –і–Є—Б–Ї –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є. ¬Ђ–Т—Б—В–∞–≤–∞–є, —Б—В—А–∞–љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—ПвА¶¬ї –£ ¬Ђ–љ–∞–і–Њ¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Њ –Ј–≤—Г—З–Є—В –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є —Б—В—А–∞–љ—Л, –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –њ–Њ–±—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞. –Ю–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Љ–∞—А—В —Б–Њ—А–Њ–Ї —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—И–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, —В–∞–Ї –Љ–Њ—Й–љ–Њ –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–µ—Б—П —Г —Б—В–µ–љ –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –Ј–∞—Б—В–Њ–њ–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е –Њ—В –Ф–љ–µ–њ—А–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Њ –≤—Б–њ—П—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А—Г–і–∞—А–∞ –Ь–∞–љ—И—В–µ–є–љ–∞. –Р–љ–Є—Б–Є–Љ–∞ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З–∞ –Є –Т–∞—Б–Є–ї—М–Ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Ј–∞–≥—А–∞–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —А—П–і–Њ–Љ. –І–µ—В—Л—А–µ ¬Ђ—Б—В—Г–і–µ–±–µ–Ї–Ї–µ—А–∞¬ї —Б –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Љ–Є–љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–µ–ґ–Є—Е, —Б–њ–µ—И–љ–Њ –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –±–Њ–є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї. –Ю–љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є —В–∞–љ–Ї–Њ–Њ–њ–∞—Б–љ—Л–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–Ї–∞–њ—Л–≤–∞–ї–Є –Љ–Є–љ—Л –≤ –Љ–Њ–Ї—А—Л–є —Б–љ–µ–≥ –Є —Б–њ–µ—И–љ–Њ –Њ—В—К–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –њ–Њ–і –Њ–≥–Њ–љ—М —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є. –Ъ–Є—Б–ї–Њ–≤ —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Љ–Є–љ—Л –љ–∞ –і–љ–µ –Њ–і–љ–Њ–є –±–∞–ї–Њ—З–Ї–Є, –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–є –Є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Н—В–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ш –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З —Б—А–∞–Ј—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–µ–±–µ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –Є –Ј–∞–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–Њ—Б–µ–і–љ—О—О –±–∞–ї–Њ—З–Ї—Г. –Ґ–∞–љ–Ї–Є –њ–Њ—И–ї–Є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ –Ъ–Є—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–Њ–ґ–±–Є–љ–Ї–µ, —Г–ґ –Њ—З–µ–љ—М –Њ–љ–∞ –Љ–∞–љ–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ—Б—В—М—О. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥—А–Њ—Е–љ—Г–ї–Є –і–≤–∞ –≤–Ј—А—Л–≤–∞, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –≤ –µ–≥–Њ –±–∞–ї–Њ—З–Ї—Г, –Є –і–≤–µ –Љ–∞—И–Є–љ—Л –Њ–љ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–є —Б—З–µ—В. –Ш—Е –љ–∞–≥—А–∞–і–Є–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ, –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є ¬Ђ–Ч–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є¬ї. –Ъ–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —З–∞—Б—Л –±—Л–ї–Є –≤—Л–Є–≥—А–∞–љ—Л —В–Њ–≥–і–∞, –Є –Њ–љ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —Б–≤–Њ—О –љ–µ–Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–Љ —Б–љ–µ–≥—Г –Є —В–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–µ –Є —А–µ–і–Ї–Њ–µ –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ —Н—В–∞ –Є—Е –љ–µ–Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–Є –і–ї—П –Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј –µ–≥–Њ –ї—О–і–µ–є –љ–µ –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М —Б–Љ–µ—А—В—М—О. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ —Д—А–Њ–љ—В —Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і. ¬Ђ–Я—Г—Б—В—М —П—А–Њ—Б—В—М –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–∞—П –≤—Б–Ї–Є–њ–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–ї–љ–∞вА¶¬ї
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –©–µ–ї–Ї–љ—Г–ї –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Ї, –Є –≤ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–µ–є –Ј–∞–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ, —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞. ¬Ђ–Э–∞ —Н—В–Њ–Љ, –Т–∞—Б—П-–Т–∞—Б–Є–ї–µ–Ї, –Љ–Њ–µ —Б —В–Њ–±–Њ–є –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є–µ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—Б—П¬ї, — –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З, –Њ—З–µ–љ—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ—П. –Я—А–Є—И–µ–ї –≤–љ—Г–Ї –Р–љ–і—А–µ–є, –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ—Л–є –і–µ–≤—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є —Б—В—Г–і–µ–љ—В –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞, –Є –њ—А–Є–≤–µ–ї —Б–≤–Њ—О –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г, –Ы–∞–і–Њ—З–Ї—Г, —Б—В–∞—В–љ—Г—О, —П—Б–љ–Њ–≥–ї–∞–Ј—Г—О, –њ–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥—Г –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞–≤—И—Г—О —Б—В–µ—Б–љ—П—В—М—Б—П –≤ –Є—Е –і–Њ–Љ–µ, –Є –Ь–∞—Е–Љ—Г–і–∞, —Б–Њ–Ї—Г—А—Б–љ–Є–Ї–∞, –Є –µ—Й–µ –Њ–і–љ—Г –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –њ–Њ–і—А—Г–≥—Г –Ь–∞—Е–Љ—Г–і–∞. –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї —А–∞–і—Г—И–љ–Њ, –Ј–∞—Б—Г–µ—В–Є–ї—Б—П, –Ј–∞–±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —З–∞–є–љ–Є–Ї –њ–Њ–і —В—Г–≥—Г—О —Б—В—А—Г—О –≤–Њ–і—Л, –∞ –Њ—В –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –µ–≥–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї–∞ –Ы–∞–і–∞.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬Ђ–Ф–µ–і—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–Є—Б–Є–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —П —Б–∞–Љ–∞!¬ї вАУ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Є –Ј–∞—Е–Њ–Ј—П–є–љ–Є—З–∞–ї–∞ –њ–Њ-—Б–≤–Њ–є—Б–Ї–Є, –±—Л—Б—В—А–Њ –Є –ї–Њ–≤–Ї–Њ. –Ю–љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —Б–∞–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞ —Б—В–Њ–ї –Ї–Њ–љ—Д–µ—В—Л –Є —З–µ—А–µ—И–љ—О, –Є–Ј–±–∞–≤–ї—П—П –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б—В–µ—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш, —Г–ґ–µ –і–ї—П –±–µ–Ј—Г—Б–Њ–є —Н—В–Њ–є –њ–Њ—А–Њ—Б–ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–љ–∞–ї–∞ –Њ –≤–Њ–є–љ–µ –њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ –Є —Д–Є–ї—М–Љ–∞–Љ, –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –Є–≥–ї—Г –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Г—О –±–Њ—А–Њ–Ј–і—Г –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є. –Т–Њ–Ј–і—Г—Е –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –њ—А–Є–Ј—Л–≤–Њ–Љ:
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬Ђ–Т—Б—В–∞–≤–∞–є, —Б—В—А–∞–љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—ПвА¶¬ї
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –љ–µ –≤—Б—В—А–µ–њ–µ–љ—Г–ї—Б—П, –љ–µ –≤—Б–Ї–Є–љ—Г–ї –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ –±—А–Њ–≤–µ–є. –Я–µ—Б–љ—П –Њ–±—В–µ–Ї–∞–ї–∞ –Є—Е, –љ–µ —В—А–Њ–≥–∞—П, –љ–µ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–∞. –Ю–љ–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є–Љ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞. –Ф–∞ –Є –ґ–Є–ї–Є –Њ–љ–Є –і–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, –∞ –≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є. –Ш–Љ, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–µ—З–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З–µ–Љ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–ї–Њ–љ –±—Л–ї –Њ–љ, –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬Ђ–Ф–µ–і, –Њ–њ—П—В—М —В—Л –≤–Њ—О–µ—И—М! вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–љ—Г–Ї –±–µ–Ј —Г–њ—А–µ–Ї–∞ –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –ї–∞–і–Њ–љ—М—О –µ–≥–Њ –њ–ї–µ—З–∞. вАУ –†–∞–Ј—А–µ—И–Є –љ–∞–Љ —Б–∞–Љ–Є–Љ, –∞? –Ь—Л –њ–Њ—В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞—В—М —Е–Њ—В–Є–Љ. –£ –љ–∞—Б, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, —Б–≤–Њ–Є –њ–µ—Б–љ–Є, –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–µ. –Ы–∞–і–љ–Њ, –і–µ–і? –С–µ–Ј –Њ–±–Є–і?¬ї
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З —А–∞–Ј–≤–µ–ї —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П. –Ю–≥–ї—П–і–µ–ї –µ—Й–µ —А–∞–Ј —Б—В–Њ–ї, –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї –Ї –Ї–Њ–љ—Д–µ—В–∞–Љ –Є —З–µ—А–µ—И–љ–µ –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї—Г —Е–∞–ї–≤—Л, –Ї–Є–≤–љ—Г–ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є –Є –њ–Њ—И–µ–ї –≤ —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г. –Р –≤–љ—Г–Ї —Г–ґ–µ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ –љ–∞—И–∞—А–Є–≤–∞–ї –љ–∞ –њ–Њ–ї–Ї–µ ¬Ђ–С–Њ–љ–Є-–Ь¬ї –Є –Р–ї–ї—Г –Я—Г–≥–∞—З–µ–≤—Г. ¬Ђ–Я—Г—Б—В—М —П—А–Њ—Б—В—М –±–ї–∞–≥–ЊвА¶¬ї –Ш –Њ–±–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–µ—Б–љ—П –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—Б–ї–Њ–≤–µ, –Є –њ–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М –Є–љ—Л–µ –Љ–µ–ї–Њ–і–Є–Є, –Є–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З –і–∞–ґ–µ —Б–ї—Г—И–∞—В—М –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї, –Ї–Њ—А–Њ–±–Є–ї–Є –Њ–љ–Є –µ–≥–Њ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–≥–Њ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬Ђ–Ґ–∞–Ї-—В–Њ, –Т–∞—Б—П-–Т–∞—Б–Є–ї–µ–Ї! вАУ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –Њ–љ –≤ –њ—Г—Б—В–Њ—В—Г. вАУ –Я—А–Њ—Й–∞–є, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є. –Я—Г—Б—В—М¬† –Ј–µ–Љ–ї—П¬† —В–µ–±–µ –±—Г–і–µ—ВвА¶¬ї –Я—А–Є–ї–µ–≥ –Є –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї—Б—П, –Є —Б—В–∞–ї –Ј–∞–і–∞–≤–∞—В—М —Б–µ–±–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –Ю—В–≤–µ—В–Њ–≤ —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В–∞–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ–≥–і–∞. –Ш –љ–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –ї–Є, –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є?
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ю–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, –Ї–∞–Ї –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–Њ—А–Њ–Ї –њ—П—В–Њ–≥–Њ, –Є —Б–µ–Љ–Є–ї–µ—В–љ–Є–є —Б—Л–љ –Є –њ—П—В–Є–ї–µ—В–љ—П—П –і–Њ—З—М –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –Є –і–Њ–ї–≥–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –µ–Љ—Г ¬Ђ–≤—Л¬ї. –Ш –ї–µ—В –≤–Њ—Б–µ–Љ—М, –њ–Њ–Ї–∞ –і–µ—В–Є –љ–µ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –≤—Б–µ –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –љ–∞–Є–Ј—Г—Б—В—М, —Б—Л–љ –Є –і–Њ—З—М –Ј–∞–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –≤ –Ї—А–Њ–≤–∞—В—М –Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є —В–Њ–Љ –ґ–µ: ¬Ђ–Я–∞–њ–∞, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є –њ—А–Њ –≤–Њ–є–љ—Г!¬ї –Ґ–µ–ї—М—Ж–∞ –і–µ—В–µ–є, –љ–µ–≤–µ—Б–Њ–Љ—Л–µ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞, –≥–Њ–і –Њ—В –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –Ї—А–µ–њ–ї–Є, –љ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–і–љ–∞. –Ш –Њ–љ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї –Є–Љ –ї–µ—З—М —А—П–і–Њ–Љ –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, –Є —В–Є—И–Є–љ–∞, —В–Є—И–Є–љ–∞ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ –Є—Е –њ–µ—А–µ–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ. –Т—Б–µ —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є, –Є –Њ–љ —В–Њ–ґ–µ —Б–ї—Г—И–∞–ї —Б–µ–±—П –Є –≥–Њ—А–і–Є–ї—Б—П —Б–Њ–±–Њ–є.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ш, –≤–µ–і—М, –љ–µ –њ—А–Є–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї –Њ–љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Ґ–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М, —Б –ї–Є—Е–≤–Њ–є —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—Б—Л—В–Є—В—М –љ–µ—Г—В–Њ–ї–Є–Љ—Г—О –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–љ—З–∞–µ–Љ—Г—О –і–µ—В—Б–Ї—Г—О –ї—О–±–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Т–Њ–є–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–≥–∞—З–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є –Є –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ–Є —Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, —З–µ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–µ –њ—Л–ї–Ї–Њ–µ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ, –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї, –і–µ—В–Є –≤–Ј–∞—Е–ї–µ–± –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і—А—Г–Ј—М—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –±—Л–ї–Є: –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Є—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤ –Ї –љ–Є–Љ –і–Њ–Љ–Њ–є –њ—А–Є—И–ї–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Ї–Є.¬† –Р –≤–љ—Г–Ї –Р–љ–і—А–µ–є –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї: ¬Ђ–Ф–µ–і, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –Ї–∞–Ї —В—Л –≤–Њ–µ–≤–∞–ї!¬ї –Ш –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є —Б –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Њ–љ–Є –µ–Љ—Г –љ–Є –Њ —З–µ–Љ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э–Њ –љ–µ –≤–љ—Г–Ї–∞ –±–µ—Б–њ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є —П—Б–љ–Њ–≥–ї–∞–Ј–Њ–≥–Њ –Њ–љ —Б–µ–є—З–∞—Б –≤–Є–љ–Є–ї, –≤–љ—Г–Ї –±—Л–ї –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ –µ–≥–Њ —Б–≤–µ—А—Б—В–љ–Є–Ї–Є. –Ю–љ, –Р–љ–Є—Б–Є–Љ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤–Є—З, –љ–µ –і–Њ–љ–µ—Б –і–Њ –≤–љ—Г–Ї–∞ —З—В–Њ-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Є –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ, —З—В–Њ, –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г –±—Г–і–µ—В –і–Њ–љ–µ—Б—В–Є. –Х—Й–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ. ¬Ђ–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, — –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Њ–љ, — —Б—Л–љ –Є –і–Њ—З—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–Є –≤–Њ–є–љ—Г –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ —В—Л–ї—Г. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –≤–Њ —З—В–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ, –Є –Є—Е –±–µ—А–µ–≥–ї–Є –Є —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є-—В–∞–Ї–Є. –Ш –Њ–љ–Є –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Є—Е –±–µ—А–µ–≥–ї–Є –Є —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є.¬† –Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Б—В–Њ–Є–ї–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є. –Х—Й–µ –Њ–љ–Є –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї–Є–Љ —П—А–Ї–Є–Љ –±—Л–ї –Ф–µ–љ—М –њ–Њ–±–µ–і—Л вАУ –љ–µ –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–є, –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –≤–Њ—Б—М–Љ–Њ–є, –∞ —Б–∞–Љ—Л–є –њ–µ—А–≤—Л–є. –Ъ–∞–Ї–Є–Љ –і–Њ–ї–≥–Є–Љ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ —Г–њ–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –±—Л–ї —В–Њ—В –і–∞–ї–µ–Ї–Є–є —Г–ґ–µ —Б–∞–ї—О—В, –Є –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–Љ–Є –±—Л–ї–Є –ї–Є—Ж–∞ –ї—О–і–µ–є, –≤—Л—И–µ–і—И–Є—Е –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Л. –Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ —Н—В–Є –ї—О–і–Є –љ–µ –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л. –Р–љ–і—А–µ—П –ґ–µ —Н—В–Њ –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ. –Ш –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –ї–Є —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М —Б –љ–Є—Е –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ?¬ї
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ф–∞, –µ—Й–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –Ј–∞–ґ–µ—З—М –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —О–љ–Њ—И–Є, –њ–µ—А–µ–ї–Є—В—М –≤ –љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ —В–Њ–ї–Є–Ї—Г —Б–≤–Њ–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ –≤–Њ–є–љ–µ, –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —В–∞–Ї–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –љ–µ –Ј–∞—Б–ї–Њ–љ–µ–љ–љ–Њ–є –Є –љ–µ –њ–µ—А–µ—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–Њ–є –Љ–Є–љ—Г–≤—И–Є–Љ –њ–Њ–ї—Г–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –Ш –Њ–љ —Б—В–∞–ї –і—Г–Љ–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –ї—Г—З—И–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ. –Ш–±–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –≤ –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л –љ–µ –њ—А–Њ–љ–Ј–∞–ї–Є –і—А–Њ–ґ—М—О –Є —В—А–µ–њ–µ—В–Њ–Љ –љ–∞–±–∞—В–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Т—Б—В–∞–≤–∞–є, —Б—В—А–∞–љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—ПвА¶¬ї¬†¬†¬†
–°.–Я. –Ґ–∞—В—Г—А