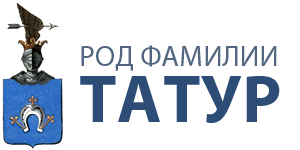1
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ґ—А–µ—В–Є–є –≥–Њ–і, –Ї–∞–Ї —Г –љ–∞—Б –љ–Њ–≤–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М. –¶–∞—А—П –љ–µ—В, –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ—В, —Н—Б–µ—А—Л —В–Њ–ґ–µ –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г—В—Л –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ — –Є—Е –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞–љ—П–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є. –Т—Б–µ –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–∞, –≤—Б–µ –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–∞! –Ы–Њ–Ј—Г–љ–≥–Њ–≤ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є—Е –љ–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–Є –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Р –љ–∞—А–Њ–і—Г –Њ—В –љ–Њ–≤–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Њ–і–љ–Є –љ–µ–ї–∞–і—Л, –Њ–і–љ–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В–Є: –Ј–∞ —Е–ї–µ–±–Њ–Љ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є, –Є –Ј–∞ –≤—Б–µ–Љ, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –ї—О–і—П–Љ, –Њ—З–µ—А–µ–і–Є, –Њ—З–µ—А–µ–і–Є –Є –Њ—З–µ—А–µ–і–Є. –Ъ—А—Г–≥–Њ–Љ —Е–Њ—В—М —И–∞—А–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–∞—В–Є вАУ —В–∞–Ї–∞—П –≤–Њ—В –ґ–Є–Ј–љ—М –Ї –љ–∞–Љ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–∞.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ь—Л –ґ–Є–≤–µ–Љ –≤ –Ь–Є–љ—Б–Ї–µ, —А—П–і–Њ–Љ —А–µ–Ї–∞ –°–≤–Є—Б–ї–Њ—З—М. –Э–∞—Б –њ—П—В–µ—А–Њ: –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Ю–ї–Є–Љ–њ–Є–∞–і–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ —В—А–µ—Е –ї–µ—В, —Б–µ—Б—В—А—Л –Љ–Њ–Є –Р–љ–љ–∞ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В, –°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В, –Э–Є–љ–∞ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В. –Ш —П, –Я–µ—В—А. –Ь–љ–µ —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—Б—П. –Ґ—А–Є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л —Г –љ–∞—Б –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ, –ґ–Є—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—В —Б –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞–Љ–Є –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –њ–ї–Њ—Е–Њ. –Т–Њ–є–љ–∞ —Б –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —И–µ—Б—В—М –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М, —Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М, –Р–љ–≥–ї–Є—П, –§—А–∞–љ—Ж–Є—П –Є –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞ –љ–µ–Љ—Ж–∞ –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–Є. –Р –Љ—Л –љ–µ–Љ—Ж–∞ –љ–µ –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–Є, –Љ—Л –Є–Ј –≤–Њ–є–љ—Л –≤—Л—И–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, —В–∞–Ї —З—В–Њ –њ–ї–Њ–і—Л –њ–Њ–±–µ–і—Л вАУ –љ–µ –і–ї—П –љ–∞—Б. –Э–µ–Љ—Ж—Л, –њ–µ—А–µ–і —В–µ–Љ –Ї–∞–Ї –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –≤ –Ь–Є–љ—Б–Ї –≤–Њ—И–ї–Є, –љ–Њ –Є —Г—И–ї–Є –±—Л—Б—В—А–Њ. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї –Є–Љ –≤–Њ–є—В–Є –≤ –Ь–Є–љ—Б–Ї. –Э–Є—З–µ–≥–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Є —Г –љ–∞—Б, –≤—А–Њ–і–µ –±—Л, –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є. –Я–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Г—И–ї–Є.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ч–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —П –њ–µ—А–µ–≤–Є–і–∞–ї –≤–Є–і–Є–Љ–Њ-–љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ. –Я–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ —Б–њ–ї–Њ—И–љ—П–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–ї–Є —Н—И–µ–ї–Њ–љ—Л —Б —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є, —Б –њ—Г—И–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б–љ–∞—А—П–і–∞–Љ–Є. –Ф–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–∞–і —Б–Њ–ї–і–∞—В –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж—Л, –Є —В–µ–њ–µ—А—М –∞—А–Љ–Є—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є, –∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞–Љ –Є –±—Г—А–ґ—Г—П–Љ –Є –≤—Б–µ–Љ —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –њ—А–Є—В–µ—Б–љ—П–µ—В —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –љ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Р —Е–ї–µ–±–∞ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –Ї—Г–њ–Є—В—М, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е–Њ—З–µ—И—М. –Т—Б–µ –њ–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–Љ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ, –≤—Б–µ –њ–Њ –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–∞–Љ. –Т—Б–µ –≤–њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ–і—М. –Ь—Л —Г—Б—В–∞–ї–Є –ґ–Є—В—М –≤–њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ–і—М, –љ–Њ –Ї—В–Њ –љ–∞—Б —Б–ї—Л—И–Є—В, –Ї—В–Њ –љ–∞–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–µ—В? –Ь–∞—В–µ—А–Є —Н—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ—В–µ—Ж –Ъ—Г–Ј—М–Љ–∞ –§–µ–ї–Є–Ї—Б–Њ–≤–Є—З –љ–µ –ґ–Є–≤–µ—В —Б –љ–∞–Љ–Є? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ—В—К–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П?
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†–° –Љ–∞–Љ–Њ–є –љ–∞ —Б–µ–є —Б—З–µ—В —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –ї—Г—З—И–µ –љ–µ –Ј–∞–≤–Њ–і–Є—В—М. –Ы–Є—Ж–Њ —Г –љ–µ–µ —Б—А–∞–Ј—Г –Ј–µ–Љ–ї–Є—Б—В–Њ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П, –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–µ. –Х–є —Е—Г–ґ–µ –≤—Б–µ—Е, —З—В–Њ –Њ—В–µ—Ж –љ–µ —Б –љ–∞–Љ–Є. –Р–љ–љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Њ—В–µ—Ж, –Ї–∞–Ї c–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ—Г—В–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Г–є—В–Є –Є —Б–њ—А—П—В–∞—В—М—Б—П, –љ–µ –±—Л—В—М —Г —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е. –Х–Љ—Г, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ –љ–∞—Б –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –љ–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є—В—М –њ–Њ-–і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Я–µ—В—Г—И–Њ–Ї, —Б—Е–Њ–і–Є –Ј–∞ —Е–ї–µ–±–Њ–Љ! вАУ –Ь–∞—В—М –і–∞–µ—В –Љ–љ–µ –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–Є –Є –і–µ–љ—М–≥–Є, –Є —П –Є–і—Г. –Ю–±—Л—З–љ–Њ —Н—В–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Р–љ–љ—Л –Є–ї–Є –°–≤–µ—В–ї–∞–љ—Л, –љ–Њ –Њ–љ–Є –Ј–∞–љ–µ–і—Г–ґ–Є–ї–Є, –Є —П –Є–і—Г. –Ч–∞—А–∞–Ј–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –њ—А–Є—И–ї–∞, –Є –Њ—З–µ–љ—М –њ–ї–Њ—Е–∞—П вАУ –і–Є-–Ј–µ–љ-—В–µ-—А–Є—П! –≠-–њ–Є-–і–µ-–Љ–Є-—П! –Я–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Є–є —Б—А–∞–Ј—Г —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј –±–Њ–ї—М—И–µ. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –≤ —Б—В–Њ —А–∞–Ј –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Њ–±—Л—З–љ–Њ. –Ґ–µ–ї–µ–≥–Є —Б –≥—А–Њ–±–∞–Љ–Є –µ–і—Г—В –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –Њ–і–љ–∞ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є. –Э–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ь–Є–љ—Б–Ї–µ, —Б—В—А–∞—И–љ–Њ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Ї —Б–ї–Њ–≤—Г ¬Ђ–і–Є–Ј–µ–љ—В–µ—А–Є—П¬ї –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ—Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є—П¬ї. –Ґ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞—О—В —Б—А–∞–Ј—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ. –Ш –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Ї –љ–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–∞ —Н—В–∞ –Ј–∞—А–∞–Ј–∞? –Ю—В –±–µ–і–љ–Њ—Б—В–Є? –Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –Ї –±–µ–і–љ—Л–Љ –Є –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—П—З–Ї–Є –ї–Є–њ–љ—Г—В. –†–Њ—Б—Б–Є—П –≤ —В–Є—Д—Г –ї–µ–ґ–Є—В, –∞ –љ–∞—Б –і–Є–Ј–µ–љ—В–µ—А–Є—П –Ї–Њ—Б–Є—В.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Т—Л–±–µ–ґ–∞–ї –≤–Њ –і–≤–Њ—А, –∞ —В–∞–Љ –Ъ–∞—Б—В—Г—Б—М —Б —А–µ–±—П—В–∞–Љ–Є –≤ –±–∞–±–Ї–Є —А–µ–ґ–µ—В—Б—П. ¬Ђ–Я—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–є—Б—П!¬ї — –Ј–Њ–≤–µ—В.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –ѓ вАУ –Ј–∞ —Е–ї–µ–±–Њ–Љ! вАУ –Ї—А–Є—З—Г —П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э—Г, –Є –Ј–∞–≥–Њ—А–∞–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Њ—З–µ—А–µ–і–Є! вАУ –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–љ –Љ–µ–љ—П. –Х–Љ—Г —Г–ґ–µ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В—М, –Є –Њ–љ –љ–∞ –њ–Њ–ї–≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –≤—Л—И–µ, –≤ –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–µ –≤—Б–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ. –Э–∞ –і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї –њ—П–ї–Є—В—Б—П, –∞ —В–µ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О—В—Б—П. –≠—В–Њ —Г–ґ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ—Б—В—М.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ь–љ–µ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ, —П —Б—В–Њ—О –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞. –Ф–Њ–Љ–Њ–є –љ–µ—Б—Г –њ–Њ–ї—В–Њ—А—Л –±—Г—Е–∞–љ–Ї–Є, –≥–Њ—А–±—Г—И–Ї—Г –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –љ–µ –Њ—В–ї–∞–Љ—Л–≤–∞—О, —Б—В–µ—Б–љ—П—О—Б—М —Г–ґ–µ. –Ь–∞–Љ–∞ –љ–µ –ї—О–±–Є—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –≤—Л–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О –љ–∞ —Б—В–Њ–ї –Њ–±–Њ–і—А–∞–љ–љ—Г—О –±—Г—Е–∞–љ–Ї—Г. –Ч–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г –Ї —Б–µ—Б—В—А–∞–Љ. –І—В–Њ-—В–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ —Г –љ–Є—Е –њ–∞—Е–љ–µ—В, –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ –њ–∞—Е–љ–µ—В. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї –Љ–Є–Љ–Њ –≥–Њ—А—И–Њ—З–Ї–∞ –њ–Њ-–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г —Б—Е–Њ–і–Є–ї, –∞ –Ј–∞ –љ–Є–Љ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–±—А–∞–ї. –Р–љ–љ–∞ –Є –°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞ –ї–µ–ґ–∞—В, –≤ –њ–Њ—В–Њ–ї–Њ–Ї —Б–Љ–Њ—В—А—П—В. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞—О—В –Є –≤ —В—Г–∞–ї–µ—В –Љ—З–∞—В—Б—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ. –Я—А–Є—Б–њ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В! –Т–Є–і–љ–Њ –њ–Њ –љ–Є–Љ, —З—В–Њ –±–Њ–ї—П—В —Г –љ–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–Є–Ї–Є, –Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ. –°—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ –Є—Е –ї–Є—Ж–∞—Е. –Р –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Љ–Њ—З—М? –І–µ–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М? –Х—Б–ї–Є –±—Л —П –Љ–Њ–≥!
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Т—А–∞—З –§–Њ–Љ–∞ –У–Њ—А–і–µ–µ–≤–Є—З –Ј–∞—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –љ–∞–Љ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞. –°–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ї—Г—И–∞—В—М, –∞ —З–µ–≥–Њ –Ї—Г—И–∞—В—М –љ–µ –љ–∞–і–Њ. –Э–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Љ–∞—В–µ—А–Є: ¬Ђ–Э—Г, –Ї–∞–Ї?¬ї — –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —А–∞–Ј–≤–µ–ї —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. –Ф–∞–ї –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В. –Я–Њ–Љ–Њ—А—Й–Є–ї—Б—П: –Љ—Г—Е –≤ –і–Њ–Љ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ь—Г—Е–Є, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—З–Є–Ї–Є –Ј–∞—А–∞–Ј—Л. –Э–Њ –ї–µ—В–Њ, –Є –Њ—В –љ–Є—Е –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ —Б–њ—А—П—З–µ—И—М—Б—П. –§–Њ–Љ–∞ –У–Њ—А–і–µ–µ–≤–Є—З —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞—А–∞—Б—Е–≤–∞—В, –љ–Њ –Њ–љ –љ–µ –≤—Б–µ—Б–Є–ї–µ–љ. –Ы–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤ –љ–µ—В, –Њ—В –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–∞ –і–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—О—В. –Ъ–∞–Ї —Б—В–∞–ї–Є –Љ—Л –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є, —В–∞–Ї –Њ—В –љ–∞—Б –≤—Б—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –Њ—В–≥–Њ—А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М. –†–∞–Ј –≤—Л –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ, —В–Њ –Є –Ј–∞–±–Њ—В—М—В–µ—Б—М –Њ —Б–µ–±–µ —Б–∞–Љ–Є.¬†¬†¬†
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э–µ —В–Њ—А—З–Є —В—Л —В—Г—В, –љ–µ —В–Њ —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–і—Е–≤–∞–Ї—В–Є—И—М –Ј–∞—А–∞–Ј—Г! вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Љ–∞—В—М. –ѓ –њ–Њ–љ—П–ї –µ–µ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ. –Ю—В—А–µ–Ј–∞–ї –ї–Њ–Љ–Њ—В—М —Е–ї–µ–±–∞, –љ–∞–ї–Є–ї –≤ –Ї—А—Г–ґ–Ї—Г –Ї–Њ–ї–Њ–і–µ–Ј–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л, –њ–Њ–µ–ї, –њ–Њ–њ–Є–ї вАУ –Є –±–µ–≥–Њ–Љ –≤–Њ –і–≤–Њ—А. –Ф–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞. –С–∞–±–Ї–Є –Ъ–∞—В—Г—Б—М–Ї—Г –љ–∞–і–Њ–µ–ї–Є, –Є –Њ–љ –Ј–Њ–≤–µ—В –љ–∞ –°–≤–Є—Б–ї–Њ—З—М, –Ї—Г–њ–∞—В—М—Б—П. –Ш–і–µ–Љ –≤–њ—П—В–µ—А–Њ–Љ, –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є, –≤ –Њ–і–љ—Г —И–Ї–Њ–ї—Г —Е–Њ–і–Є–Љ. –Т–µ—А–µ—Й–Є–Љ, —Б–Љ–µ–µ–Љ—Б—П. –Ъ—А—Г–≥–Њ–Љ –і–Њ–Љ–Є–Ї–Є –љ–∞ –Њ–і–љ—Г —Б–µ–Љ—М—О, –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–∞–і–Є–Ї–Є, —Б–Є—А–µ–љ—М, —А–Њ–Ј—Л. –Ъ —А–µ–Ї–µ –њ—А–Є—И–ї–Є –±—Л—Б—В—А–Њ, –Љ–µ—Б—В–Њ –≤—Л–±—А–∞–ї–Є, –≥–і–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ—В. –Т —В–∞–Ї–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Є –±–µ–Ј —В—А—Г—Б–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–њ–ї–∞–≤–∞—В—М. –Ы–Є—И—М –±—Л –і–µ–≤—З–∞—В–∞ –љ–µ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–Є. –Э–Њ —Г –љ–∞—Б —Г–≥–Њ–≤–Њ—А: –µ—Б–ї–Є –і–µ–≤—З–∞—В–∞ –њ—А–Є–і—Г—В, –Ъ–∞—Б—В—Г—Б—М вАУ –Њ–љ –≤ —В—А—Г—Б–∞—Е –Ї—Г–њ–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Л–µ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –≤–Ј—П–ї, — –≤—Л–є–і–µ—В –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –Є –Ї–Є–љ–µ—В –љ–∞–Љ –≤ –≤–Њ–і—Г –љ–∞—И–Є —В—А—Г—Б–Є–Ї–Є. –Я–ї–∞–≤–∞–µ–Љ, –±—А—Л–Ј–≥–∞–µ–Љ—Б—П, –≥–Њ–≥–Њ—З–µ–Љ. –†–µ–Ї–∞ –°–≤–Є—Б–ї–Њ—З—М вАУ —Н—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –ї—Г—З—И–µ–µ, —З—В–Њ —Г –љ–∞—Б –µ—Б—В—М. –•—Г–і—Л–µ –Љ—Л –≤—Б–µ, –µ—Й–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Є –њ—Г–њ–Њ–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ї –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Њ—З–љ–Є–Ї—Г –њ—А–Є–ї–Є–њ–љ—Г—В—М.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ы–µ–ґ–Є–Љ –љ–∞–≥–Є—И–Њ–Љ –љ–∞ –њ–µ—Б–Њ—З–Ї–µ, –Ј–∞–≥–Њ—А–∞–µ–Љ. –Ф–µ–ї–∞ –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–µ–Љ: –У–µ–љ–∞ —В–µ—В–Ї—Г –і–≤–∞ –і–љ—П –љ–∞–Ј–∞–і –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї, –∞ –Ъ–∞—Б—В—Г—Б—М вАУ –і–µ–і–∞. –Э–Є–Ї–Њ–Љ—Г —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–µ —Б–ї–∞–і–Ї–Њ. –Ф–Є–Ј–µ–љ—В–µ—А–Є—П –Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ—З–µ—В, —В–Њ–≥–Њ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –љ–∞ —В–Њ—В —Б–≤–µ—В. –Т —Ж–µ—А–Ї–≤–∞—Е —Б–њ–ї–Њ—И–љ—Л–µ –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є—П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –І–µ—Б–љ–Њ–Ї –љ–∞–і–Њ –ґ—А–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞—А–∞–Ј–∞ –љ–µ –ї–Є–њ–ї–∞! –Я–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–µ –≤ –і–µ–љ—М! вАУ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ъ–∞—Б—В—Г—Б—М.¬†
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ–і–Њ—З–Ї–Є –≥–ї–Њ—В–љ—Г—В—М –љ–∞–і–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ —З–µ—Б–љ–Њ—З–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–Ї—Г—Б–Є—В—М! вАУ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –У–µ–љ–∞. –Ч–љ–∞—В–Њ–Ї–Є! –Ч–∞–Љ–µ—З–µ–љ–Њ: –Љ—Г–ґ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—М—О—В, –ї—Г—З—И–µ —Б–µ–±—П –Њ–±–µ—А–µ–≥–∞—О—В, —З–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –њ—М—О—В.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –£ —В–µ–±—П –і–≤–Њ–µ —Б–ї–µ–≥–ї–Є? вАУ —Б–њ—А—И–∞–Є–≤–∞–µ—В –Љ–µ–љ—П –Ъ–∞—Б—В—Г—Б—М.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Р–≥–∞. –Я–ї–Њ—Е–Њ –Є–Љ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –≠—В–Њ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –њ–ї–Њ—Е–Њ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Х–і–≤–∞ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–∞—В –Є–Ј —В—Г–∞–ї–µ—В–∞, —В–∞–Ї —Б–љ–Њ–≤–∞ —В—Г–і–∞ –±–µ–ґ–∞—В—М –љ–∞–і–Њ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –£ –Љ–µ–љ—П –Љ–∞—В—М —Б–ї–µ–≥–ї–∞, — —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –У–µ–љ–∞.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Т—Б–µ–Љ —Б–µ–є—З–∞—Б —В—А—Г–і–љ–Њ, — —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ъ–∞—Б—В—Г—Б—М. вАУ –Э–∞ –≤–Њ–є–љ–µ, –Є —В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А–∞. –†–∞–Ј–≤–µ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–Љ—Ж—Л –≥–∞–Ј—Л –љ–∞ –љ–∞—И–Є—Е –љ–∞–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ь—Л –Њ–њ—П—В—М –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –≤–Њ–і—Г, –∞ –У–µ–љ–∞ –љ—Л—А–љ—Г–ї —Б —Б–∞–Љ–Њ–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–Љ–њ–ї–Є–љ–∞. –Ъ—А–∞—Б—Г–µ—В—Б—П! –ѓ –љ–µ –љ—Л—А—П—О –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ. –Ь–µ–ї–Ї–Њ —В—Г—В. –Т –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –љ–∞—И —Б–Њ—Б–µ–і –і—П–і—П –Р—А–Ї–∞–і–Є–є –љ—Л—А–љ—Г–ї —Б –±—Г–≥–Њ—А–Ї–∞ –Є —И–µ—О —Б–µ–±–µ —Б–ї–Њ–Љ–∞–ї. –Я—П—В–µ—А—Л—Е —А–µ–±—П—В–Є—И–µ–Ї —Б–Є—А–Њ—В–∞–Љ–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї. ¬Ђ–Т –њ—П—В–љ–∞—И–Ї–Є!¬ї — –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї –Ъ–∞—Б—В—Г—Б—М. –Я–Њ–Є–≥—А–∞–ї–Є –≤ –њ—П—В–љ–∞—И–Ї–Є, –љ–Њ –±–µ–Ј –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –∞–Ј–∞—А—В–∞. –Ы–Є—И—М –±—Л –≤—А–µ–Љ—П —В–µ–Ї–ї–Њ, –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–µ –љ–∞–і–Њ. –Ф–Њ–ї–≥–Њ —Б–Є–і–µ–ї–Є –≤ –≤–Њ–і–µ –Є –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј–ї–Є. –Я–Њ–њ—А—Л–≥–∞–ї–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г, –њ–Њ–±–µ–≥–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ. –Ґ–µ–њ–ї–Њ —Б—В–∞–ї–Њ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –і–Њ–Љ–Њ–є! –Я–Њ–Ї–∞ –і–Њ—И–ї–Є –і–Њ –љ–∞—И–µ–є —Г–ї–Є—Ж—Л, —В—А–Є —В–µ–ї–µ–≥–Є —Б –≥—А–Њ–±–∞–Љ–Є –Љ–Є–Љ–Њ –љ–∞—Б –њ—А–Њ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є. –Я—А–Є—В–Є—Е–ї–Є –Љ—Л. –Ш –ї–µ—В–Њ –њ—А–Є —В–∞–Ї–Њ–є —А–∞—Б–Ї–ї–∞–і–Ї–µ —Г–ґ–µ –љ–µ –ї–µ—В–Њ. –°—В—А–∞—И–љ–Њ. –Ш –Љ–∞—В–µ—А–Є –Љ–Њ–µ–є —Б—В—А–∞—И–љ–Њ, –Є —Б–µ—Б—В—А–∞–Љ. –Т–µ–і—М –≤—Б–µ –Њ–љ–Є —Б—В–∞—А—И–µ –Љ–µ–љ—П, –ї—Г—З—И–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В, —З—В–Њ –Ї —З–µ–Љ—Г. –Я–µ—А—Б—В —Б—Г–і—М–±—Л вАУ –љ–∞ –Ї–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П, –њ–µ—А–µ–і –Ї–µ–Љ –Њ–њ—Г—Б—В–Є—В –Ј–∞–љ–∞–≤–µ—Б?
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –ѓ –Љ–Њ–ї—О –С–Њ–≥–∞, —З—В–Њ–±—Л –Р–љ–љ–∞ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞. –ѓ –Љ–Њ–ї—О –С–Њ–≥–∞, —З—В–Њ–±—Л –°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞. –ѓ –Љ–Њ–ї—О –С–Њ–≥–∞, —З—В–Њ–±—Л –љ–Є–Ї—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б–µ–Љ—М–µ –љ–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї. –Ч–∞ –Р–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–љ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –њ–∞—А–µ–љ—М —Г—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В. –Т–∞–≥–Њ–љ–Њ–≤–Њ–ґ–∞—В—Л–є, —П –≤ –µ–≥–Њ —В—А–∞–Љ–≤–∞–µ –µ–Ј–і–Є–ї. –≠—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–Њ, —З–µ–Љ –≤–Њ–Ј–ґ–∞–Љ–Є –ї–Њ—И–∞–і–Ї—Г –њ–Њ–љ—Г–Ї–∞—В—М. –Ш –Љ–∞–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П —З–∞—Й–µ, —З–µ–Љ –Њ–±—Л—З–љ–Њ. –Р –њ–Њ—Б—Г–і—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Р–љ–љ—Л –Є –°–≤–µ—В–ї–∞–љ—Л –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Ї–Є–њ—П—В–Є—В, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞—А–∞–Ј–∞ –Ї –љ–µ–є, –Ї –Э–Є–љ–µ –Є –Ї–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ –њ–µ—А–µ–Ї–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М. –ѓ —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ –Љ–∞—В—М –Є –≤–Є–ґ—Г: —Б–µ—Б—В—А–∞–Љ –њ–ї–Њ—Е–Њ. –Э–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є –ї–Є—Ж–∞ –љ–µ—В, –Ј–Є–Љ–∞ —Б–Њ—И–ї–∞ –љ–∞ –µ–µ –ї–Є—Ж–Њ. –Ь—Л —Г–ґ–Є–љ–∞–µ–Љ: –≥—А–µ—З–љ–µ–≤–∞—П –Ї–∞—И–∞ –Є —Е–ї–µ–±. –ѓ —Е–Њ—З—Г –µ—Й–µ, –љ–Њ –і–Њ–±–∞–≤–Ї–Є –љ–µ –±—Г–і–µ—В. –Я–Њ—А—Ж–Є—П –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є —В–∞–Ї –±—Л–ї–∞ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Љ–Њ–µ–є. –£ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Б–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П —Б—В—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ —В–∞–ї–Њ–љ–∞–Љ: –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Б–µ—Б—В—А–µ –њ–Њ —Б–µ—А—М–≥–∞–Љ. –Э–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В—Г, –Њ–љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤–∞–ґ–љ–µ–µ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ —Г –љ–∞—Б –≤ —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –≥–Њ—А–Є—В –Ї–µ—А–Њ—Б–Є–љ–Њ–≤–∞—П –ї–∞–Љ–њ–∞, –љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —З–Є—В–∞–µ—В. –Э–Є–љ–∞ –≤ –і–Њ–Љ–µ —Б–∞–Љ–∞—П –Ј–∞—П–і–ї–∞—П –Ї–љ–Є–≥–Њ–ї—О–±–Ї–∞, –љ–Њ –Є –Њ–љ–∞ –љ–µ —З–Є—В–∞–µ—В. –Ъ–∞–Ї–∞—П —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–∞ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞! –Э–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л –Ї–љ–Є–≥, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В—А–Є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є –Ї–љ–Є–≥ (–Ї–∞–Ї–Њ–є —П –њ—А–Є–ї–µ–ґ–љ—Л–є —Г—З–µ–љ–Є–Ї вАУ –і—А–Њ–±–Є –љ–∞–Є–Ј—Г—Б—В—М –њ–Њ–Љ–љ—О), –Љ–∞—В—М —Б–љ–µ—Б–ї–∞ –љ–∞ —З–µ—А–љ—Л–є —А—Л–љ–Њ–Ї, –љ–∞ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї–∞. –І—В–Њ –Ї–љ–Є–≥–Є, –µ—Б–ї–Є –≤ –і–Њ–Љ–µ –љ–∞—Б—З–µ—В –µ–і—Л —И–∞—А–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–∞—В–Є? –Э–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї–∞ –љ–µ—В –Њ—В –Ї–љ–Є–≥ –њ—А–Є –њ—Г—Б—В–Њ–Љ –ґ–µ–ї—Г–і–Ї–µ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –°–њ–∞—В—М —П –ї–Њ–ґ—Г—Б—М –њ–µ—А–≤—Л–є. –£ –Љ–∞—В–µ—А–Є –≤–µ—Б—М –≤–µ—З–µ—А —З—Г–ґ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ, –љ–µ –µ–µ –ї–Є—Ж–Њ. –Э–∞ –≤—Б–µ –Љ–Њ–Є –Є –Э–Є–љ–Є–љ—Л –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ–љ–∞ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –Њ–і–љ–Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ: –і–∞ вАУ –љ–µ—В, –љ–µ—В вАУ –і–∞.¬† –Х–µ –њ—Г–≥–∞–µ—В –Ј–∞–≤—В—А–∞—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М, —В–∞–Ї–Њ–є –љ–µ–њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ—Л–є. –Р, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ—Л–є? –£—В—А–Њ–Љ –њ–∞—Б–Љ—Г—А–љ–Њ, –Є –і–Њ–ґ–і–Є–Ї –љ–∞–Ї—А–∞–њ—Л–≤–∞–µ—В. –°–≤–µ—В–ї–∞–љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–ї–Њ—Е–Њ, –Љ–µ—З–µ—В—Б—П –Њ–љ–∞. –Э–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ–љ–∞, –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В, –Є –Њ—З–µ–љ—М –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ. –У–Њ—А–Є—В –Є —Б–≥–Њ—А–∞–µ—В. –ѓ —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ –љ–µ–µ, –Є –Љ–љ–µ —В–Њ–ґ–µ –њ–ї–Њ—Е–Њ. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Є –Љ–µ–љ—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –≥–љ–µ—В –і–Њ–ї—Г –Є —А–∞—Б—Б—Г–і–Ї–∞ –ї–Є—И–∞–µ—В.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Т –њ–Њ–ї–і–µ–љ—М –°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞ –≤—Л—В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–∞ –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П. –Ь–∞—В—М —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –µ–є —А—Г–Ї–Є –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є, –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–∞ –Є –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–ї–∞ вАУ –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б–µ–љ–Є–ї–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ –Ї –љ–∞–Љ —Б—О–і–∞ –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В. –Ч–∞–њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞ –Љ–∞—В—М, –Є —П –Ј–∞–њ–ї–∞–Ї–∞–ї. –Р –Э–Є–љ–∞ —Г–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –≤ –і—А—Г–≥—Г—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г –Є —В–∞–Љ —Б–њ—А—П—В–∞–ї–∞—Б—М, —В–∞–Ї –µ–є –±—Л–ї–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ. –Т—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ. –Ю–і–љ–∞ –Р–љ–љ–∞ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ вАУ –±–µ—Б–њ–∞–Љ—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞. –У—А–Њ–±–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ –Љ–∞—В—М –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞, –Њ–љ –Љ–µ—А–Ї—Г —Б–љ—П–ї. –Р –≥—А–Њ–± —Г –љ–µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –±—Л–ї –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–є. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≥—А–Њ–±–Њ–≤, –Є —Г –љ–µ–≥–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б —Ж–µ–ї–∞—П –∞—А—В–µ–ї—М —Б—В–Њ–ї—П—А–Њ–≤ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ вАУ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –≠—В–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ –≥—А–Њ–±–Њ–≤ –Њ–љ–Є –і–µ–ї–∞–ї–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М?
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ь—Л —Б –Љ–∞—В–µ—А—М—О —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –°–≤–µ—В–ї–∞–љ—Г –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ. –Ш–Ј —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є –Њ–і–Є–љ –і—П–і—П –°–Є–і–Њ—А —И–µ–ї –Ј–∞ –≥—А–Њ–±–Њ–Љ, –∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–Ї—В–Њ. –У–Њ—А–Њ–і –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –љ–∞—Б –≥–љ–µ—В—Г—Й–µ–є —В–Є—И–Є–љ–Њ–є, –Ї—А–µ—Б—В–∞–Љ–Є –Є –Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Ф–∞–ґ–µ –њ—В–Є—Ж—Л –Ј–і–µ—Б—М –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї–∞–ї–Є вАУ —В—Г—И–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Ы–µ—В–∞–ї–Є, –∞ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –љ–µ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є. –Ъ—А–µ—Б—В–∞–Љ –Є –Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї–∞–Љ –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —З–Є—Б–ї–∞. –Ь–љ–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –ї—О–і–Є —З—В–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е. –Р –Љ–∞–Љ–∞ –±—Л–ї–∞, –Ї–∞–Ї –љ–µ–≤–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–∞—П. –Ю–љ–∞ –Љ–∞–ї–Њ –љ–∞ —З—В–Њ —А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞, –Љ–∞–ї–Њ —З–µ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–∞. –Я–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ–Љ–Є–љ–Ї–Є, –љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –љ–∞ —З—В–Њ. –°–Њ—Б–µ–і–Є —Б—В—Г—З–∞–ї–Є—Б—М –≤ –і–≤–µ—А—М –Є–ї–Є –≤ –Њ–Ї–љ–Њ, –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Є —Б–Њ–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –Є –і–∞–ґ–µ —Б —Г–ї–Є—Ж—Л, –∞ –≤ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є, –±–Њ—П–ї–Є—Б—М —Б–Ї–≤–µ—А–љ—Л.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М —Б—Г–і—М–±—Г –°–≤–µ—В–ї–∞–љ—Л —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї–∞ –Р–љ–љ–∞. –£–љ—Л–ї–∞—П –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–∞—Б—М. –ѓ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –°–≤–µ—В–ї–∞–љ—Л –Є –Р–љ–љ—Л —Б –љ–∞–Љ–Є —Г–ґ–µ –љ–µ—В, –љ–µ—В –Є –љ–µ—В. –Р–љ–Є–љ –ґ–µ–љ–Є—Е –њ–ї–∞–Ї–∞–ї –љ–∞–≤–Ј—А—Л–і –Є —Б–ї–µ–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–µ —Б—В–µ—Б–љ—П–ї—Б—П. –Р –Љ–∞–Љ–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞, –≤—Л–њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ –і–Њ–љ—Л—И–Ї–∞. –Т—Б–µ –≤ –љ–µ–є –∞—В—А–Њ—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –Є –Њ–љ–∞ –Љ–∞–ї–Њ —З–µ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞, –Ї–∞–Ї –љ–µ–ґ–Є–≤–∞—П. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–ї–µ–≥–ї–∞ –Э–Є–љ–∞, –Є —Б—А–∞–Ј—Г –Ј–∞ –љ–µ—О вАУ –Љ–∞—В—М. –ѓ, –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ–ї, —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –і–ї—П –љ–Є—Е, –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і–љ–Њ—Б–Є–ї –њ–Њ–њ–Є—В—М, —З—В–Њ-—В–Њ –≤–∞—А–Є–ї, –њ—А–Є–±–Є—А–∞–ї, –њ–Њ–і—В–Є—А–∞–ї. –С—Л–ї —А—П–і–Њ–Љ, –≤–Њ –і–≤–Њ—А –Ї —А–µ–±—П—В–∞–Љ –љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї. –Ь–∞—В–µ—А–Є, —П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –љ–µ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —Б–Љ–µ—А—В—М —Б—В–∞—А—И–Є—Е –і–Њ—З–µ—А–µ–є –µ–µ –њ–Њ–і–Ї–Њ—Б–Є–ї–∞.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –•–Њ—А–Њ—И–Њ, –і–≤–∞ –Љ–Њ–Є—Е –±—А–∞—В–∞, –°–µ—А–≥–µ–є –Є –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є, –±—Л–ї–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Ь–Є–љ—Б–Ї–∞, –Њ–і–Є–љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –≤—В–Њ—А–Њ–є –≤ –Э–Є–ґ–љ–µ–Љ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ. –Х—Б–ї–Є —Г –љ–Є—Е —В–∞–Љ –Є –±—Л–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, —В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї–∞–Ї —Г –љ–∞—Б. –Я–Є—Б—М–Љ–∞ –Њ—В –љ–Є—Е –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є —А–µ–і–Ї–Њ, —А–∞–Ј –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж, –≤ –і–≤–∞. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Є—Е —З–∞—Б—В—М —В–µ—А—П–ї–∞—Б—М –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –Э–Є –љ–∞ –њ–Њ—З—В–µ, –љ–Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –љ–Є–Ї—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П, –љ–µ –≤—Л–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї—Б—П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ф–≤–∞ –і–љ—П —П —Г—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–ї –Ј–∞ –Љ–∞—В–µ—А—М—О –Є –Э–Є–љ–Њ–є, –∞ –љ–∞ —В—А–µ—В–Є–є –і–µ–љ—М –Њ–љ–Є —В–Њ–ґ–µ —Г–≥–∞—Б–ї–Є. –Т—А–∞—З –Ї –љ–∞–Љ —В–∞–Ї –Є –љ–µ –њ—А–Є—И–µ–ї, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–∞–Љ —Б–ї–µ–≥. –Ш–ї–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ—Б–њ–µ—В—М –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й–Є–Љ: –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ—В–љ–Є, –∞ –Њ–љ –Њ–і–Є–љ. –°–Њ—Б–µ–і–Є —П–≤–Є–ї–Є—Б—М, —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –≤ —З–µ—А–љ–Њ–Љ. –Я–Њ–Њ—Е–∞–ї–Є –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ –љ–∞–і–Њ. –Ь–µ–љ—П —Б–Є—А–Њ—В–Њ–є –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є, –њ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–µ –њ–Њ–≥–ї–∞–і–Є–ї–Є. –Ф—П–і—П –°–Є–і–Њ—А –Є–Ј —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–∞ –Ј–∞—И–µ–ї —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г –Љ–∞—В–µ—А–Є. ¬Ђ–≠—В–Њ —В–µ–±–µ, —Б–њ—А—П—З—М, — —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ. вАУ –Ш –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є, —З—В–Њ –µ—Й–µ –µ—Б—В—М —Г –Љ–∞—В–µ—А–Є –≤ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–µ, –≤ —П—Й–Є–Ї–∞—Е –Є –ї–∞—А—Ж–∞—Е –њ–Њ —Н—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є!¬ї — –Ю–љ —А–∞–Ј–ґ–∞–ї –ї–∞–і–Њ–љ—М, –Є –љ–∞ —Б–Ї–∞—В–µ—А–Ї—Г –ї–µ–≥–ї–Є –Њ–±—А—Г—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ, –і–≤–∞ –њ–µ—А—Б—В–љ—П, —Б–µ—А–µ–ґ–Ї–Є —Б –±–Є—А—О–Ј–Њ–є. ¬Ђ–Ѓ–≤–µ–ї–Є—А–љ—Л–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П, —З–µ—А–љ—Л–є –і–µ–љ—М!¬ї — –њ–Њ–љ—П–ї —П. –Ь–Њ–є —З–µ—А–љ—Л–є –і–µ–љ—М –љ–∞—Б—В–∞–ї –Є —Г–ґ–µ –Њ–±–≤–Њ–ї–Њ–Ї –Љ–µ–љ—П. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –і—П–і—П –°–Є–і–Њ—А —Б–∞–Љ —Б–љ—П–ї —Б –Љ–∞—В–µ—А–Є –≤—Б–µ —Н—В–Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П вАУ –Є –Љ–љ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї, –≤ —Б–≤–Њ–є –Ї–∞—А–Љ–∞–љ –љ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї. –І–µ—Б—В–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї!
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ! вАУ –њ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–ї —П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –І—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –±—Г–і–µ—И—М –і–µ–ї–∞—В—М, –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–є–і–µ—И—М? вАУ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–љ. вАУ –С—А–∞—В—М—П —В–≤–Њ–Є —Б—В–∞—А—И–Є–µ –≥–і–µ?
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –°–∞–Љ—Л–є —Б—В–∞—А—И–Є–є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –Њ–љ –≤ –њ–∞—А—В–Є–Є —Н—Б–µ—А–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В, — —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ъ –љ–µ–Љ—Г –Є –і—Г–є. –Ю–і–µ–ґ–і—Г –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Њ–і–∞–є, —Г—В–≤–∞—А—М, –Є –≤ –њ—Г—В—М-–і–Њ—А–Њ–≥—Г! вАУ –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї¬† –Њ–љ. –І—В–Њ –ґ, —Н—В–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –љ–∞—И–∞, –Љ—Л –µ–µ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є. –Р —П –Њ–і–Є–љ, –љ–Є–Ї—В–Њ –Є –љ–Є—З—В–Њ –і–ї—П –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–µ–љ—П –Љ–Є—А–∞. –≠—В–Њ —П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї. –£ –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї –∞–і—А–µ—Б –°–µ—А–≥–µ—П вАУ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –і–Њ–Љ –љ–∞ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Я—Г—Б—В—М —Н—В–Њ —Г —З–µ—А—В–∞ –љ–∞ –Ї—Г–ї–Є—З–Ї–∞—Е вАУ —П –њ–Њ–є–і—Г –Є –њ—А–Є–і—Г, –Ї—Г–і–∞ –љ–∞–і–Њ. –Э–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є. –Ш –ї–µ—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б, –љ–µ –Ј–Є–Љ–∞. –Э–∞ –љ–Њ—З—М –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —З–µ–є-—В–Њ –і–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–Є—В—М—Б—П. –Ы–µ—Б –Є–ї–Є –њ–Њ–ї–µ –њ—А–Є—О—В–Є—В—М –Љ–Њ–≥—Г—В вАУ –ї–Є—И—М –±—Л –і–Њ–ґ–і–Є–Ї –љ–µ –Ї–∞–њ–∞–ї.
                                                                                          11
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ф—П–і—П –°–Є–і–Њ—А —Г—И–µ–ї, –∞ —П –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї—Б—П –Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –≠—В–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Љ–љ–µ —И–∞–≥–∞—В—М? –Ф–Њ–ї–≥–Њ —И–∞–≥–∞—В—М. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Ж–µ–ї—Л–є –Љ–µ—Б—П—Ж —И–∞–≥–∞—В—М. –С–Њ—В–Є–љ–Њ—З–Ї–Є –µ–і–≤–∞ –ї–Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞—В, –∞ –≤—В–Њ—А—Л—Е —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ—В. –Э–Њ –≤–µ–і—М —П –Є –±–Њ—Б–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–≥—Г, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ. –Ш —Б–∞–њ–Њ–≥–Є –≤–Њ–Ј—М–Љ—Г —Б —Б–Њ–±–Њ–є, –Њ–љ–Є —Г –Љ–µ–љ—П –і–ї—П –Ј–Є–Љ—Л. –Р –њ–∞–ї—М—В–Њ? –≠—В–Њ —Г–ґ–µ –љ–∞ –≤—Л–±–Њ—А: –Є–ї–Є –њ–∞–ї—М—В–Њ, –Є–ї–Є –Њ–і–µ—П–ї–Њ. –Ъ–∞—Б—В—А—О–ї—М–Ї—Г –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О –љ–∞–і–Њ –≤–Ј—П—В—М вАУ –≥—А–Є–±–Њ–≤ –љ–∞—Б–Њ–±–Є—А–∞—О, –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї—Г, —П–є—Ж–∞ –Ї—Г–њ–ї—О вАУ –±—Г–і–µ—В –≤ —З–µ–Љ —Б–≤–∞—А–Є—В—М.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –ѓ –њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –≤—Б–µ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –Ш —Б–Ї–Њ—А–Њ —А—П–і–Њ–Љ —Б —Б–Є–і–Њ—А–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї–∞—Б—М –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –≥–Њ—А–Ї–∞ –Њ—В–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ —Н—В–Є –≤–µ—Й–Є –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ–µ—А–µ–±—А–∞—В—М –Є –≥–Њ—А–Ї—Г —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є—В—М –і–Њ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤. –ѓ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤—Б–µ —П—Й–Є—З–Ї–Є –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–∞—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є —Б–µ—Б—В–µ—А, –Њ—В–Ї—А—Л–ї –≤—Б–µ —И–Ї–∞—В—Г–ї–Ї–Є. –Ъ–Њ–µ-—З—В–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї вАУ –±—А–∞—Б–ї–µ—В, –і–≤–∞ –Њ–ґ–µ—А–µ–ї—М—П, –њ–µ—А—Б—В–µ–љ–µ–Ї.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ю–і–µ–ґ–і—Г –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О —Б–Њ–±—А–∞–ї вАУ —В—А–Є —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Ф—П–і—П –°–Є–і–Њ—А –њ–Њ—И–µ–ї —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –љ–∞ –±–∞—А–∞—Е–Њ–ї–Ї—Г, –Є —В–∞–Љ –Љ—Л –±—Л—Б—В—А–Њ –≤—Б–µ –њ—А–Њ–і–∞–ї–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–µ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М. ¬Ђ–≠—В–Њ –љ–µ –і–µ–љ—М–≥–Є! вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –і—П–і—П –°–Є–і–Њ—А –њ—А–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –і–µ–љ—М–≥–Є, — –љ–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е, –Я–µ—В—П, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ—В¬ї. –Ю–љ –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї –Љ–љ–µ —Н—В–Є –і–µ–љ—М–≥–Є —Б —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ –≤–µ–Ј—В–Є, –≤ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —Б–ї—Г—З–Є—В—М—Б—П, –∞ –њ–µ—А–µ—Б–ї–∞—В—М –Є—Е –њ–Њ –њ–Њ—З—В–µ –°–µ—А–≥–µ—О. –ѓ —В–∞–Ї –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї, –≤ –µ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є. –°–∞–Љ —П –µ—Й–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Њ–≤ –љ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї. –Т—Б–µ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є —Б–µ—Б—В–µ—А –і—П–і—П –°–Є–і–Њ—А —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–є –Љ–µ—И–Њ—З–µ–Ї, –Ј–∞—И–Є–ї –µ–≥–Њ –Є –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–ї –Ї –Љ–Њ–µ–є –љ–Њ–≥–µ вАУ —Б –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ї–Њ–ї–µ–љ–Ї–Є.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ґ–∞–Ї –ї—Г—З—И–µ! вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ. вАУ –Ь–∞–ї–Њ –ї–Є –Ї—В–Њ —В–µ–±–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—Б—П! –Т –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞—Е –њ–Њ—И–∞—А—П—В, –∞ –љ–Є–ґ–µ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–µ –±—Г–і—Г—В.¬† –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–µ–і–Њ–≥–∞–і–ї–Є–≤—Л–µ!
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э–Њ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —П –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ, –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М—Б—П —Б –і–Њ—А–Њ–≥–Є–Љ–Є –Љ–љ–µ –ї—О–і—М–Љ–Є. –Ь–∞–Љ–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ—Л —А—П–і–Њ–Љ, –Є –Њ–і–Є–љ –Њ–±—Й–Є–є –і—Г–±–Њ–≤—Л–є –Ї—А–µ—Б—В –≤–µ–љ—З–∞–ї –Є—Е –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л. –Ю–і–љ–∞ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П, —З–µ—В—Л—А–µ –Є–Љ–µ–љ–Є. –Т–Њ—В, –ґ–Є–ї–Є –ї—О–і–Є, –Љ–µ—З—В–∞–ї–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ, –∞ —Б—Г–і—М–±–∞ –≤–Ј—П–ї–∞ –Є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї–∞—Б—М –Є–љ–∞—З–µ. –С—Л–ї–Њ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ. –ѓ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ—Л–µ –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л–µ —Е–Њ–ї–Љ–Є–Ї–Є, –љ–∞ –≤–µ–љ—З–∞—О—Й–Є–є –Є—Е –Ї—А–µ—Б—В –і–Њ–ї–≥–Њ-–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ–ї–Њ—Е–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М. –Я–Њ—В–Њ–Љ –љ–Є–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П —Г—И–µ–і—И–Є–Љ –Є –њ–Њ—И–µ–ї –і–Њ–Љ–Њ–є. –Т –Љ—А–∞—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–∞—Е —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ –Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є —А–Њ–і–љ—Л–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞. –Ф–∞, —П —Г–є–і—Г, –∞ –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—Б–µ–ї—П—В—Б—П –і—А—Г–≥–Є–µ –ї—О–і–Є, –Є –Є–Љ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –љ—Г–ґ–і—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –њ—А–Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –ґ–Є–ї —В—Г—В –і–Њ –љ–Є—Е.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э–Њ—З—М, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ, –±—Л–ї–∞ –і–Њ–ї–≥–∞—П –Є —Б—В—А–∞–љ–љ–∞—П. –ѓ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Љ–љ–µ —В—Г—В –±—Л–ї–Њ. –Ґ—Г—В –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї–Є—Б—М, —В—Г—В –Љ–µ–љ—П –ї—О–±–Є–ї–Є. –Э–Њ –≤—Б–µ —А—Г—Е–љ—Г–ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ—З–∞—Б—М–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ—А–Є—И–ї–∞ —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є—П. –ѓ –±—Л–ї, –Ї–∞–Ї –Ј–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–Њ–є, –Є —Н—В–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ. –Х–µ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–≤–µ—А—Е –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –Є —Г–±—А–∞–ї–Є. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —П –±—Л–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В –≤—Б–µ–Љ –≤–µ—В—А–∞–Љ, –≤—Б–µ–Љ –љ–µ–≤–Ј–≥–Њ–і–∞–Љ. –Т—Б–µ –Ј–∞–±–Њ—В—Л –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ —В–µ–њ–µ—А—М –ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ъ—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Є —Б–µ—Б—В—А—Л, –Њ–і–љ–∞ –Ї—А–∞—И–µ –і—А—Г–≥–Њ–є. –Ъ—А—Г–≥–ї–Њ–ї–Є—Ж—Л–µ, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Й–µ–Ї–Є–µ, –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–≥–ї–∞–Ј—Л–µ, —Б –Ї–Њ—Б–∞–Љ–Є –і–Њ –њ–Њ—П—Б–∞. –£–Љ–љ–Є—З–Ї–Є, —В—А–Њ–µ–Ї –≤ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, —З–µ—В–≤–µ—А–Ї–Є —В–Њ–ґ–µ –і–Њ–Љ–Њ–є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є —А–µ–і–Ї–Њ. ¬Ђ–Ь–∞–Љ–∞, —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –њ—П—В—М!¬ї –≠—В–Є–Љ –Њ–љ–Є —Й–µ–≥–Њ–ї—П–ї–Є. –Р –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ—Е–≤–∞—Б—В–∞—В—М—Б—П –њ—П—В–µ—А–Ї–∞–Љ–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ? –Ш —З—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Н—В–Є –њ—П—В–µ—А–Ї–Є? –Я—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ–і–љ–Є–є —Б–љ–µ–≥, –≤—Б–µ –Њ –љ–µ–Љ –Є –і—Г–Љ–∞—В—М –Ј–∞–±—Л–ї–Є. –Ф–Є–Ј–µ–љ—В–µ—А–Є—П, –Њ–љ–∞, –Ї–∞–Ї —Б—В–∞—А—Г—Е–∞ –≤ —З–µ—А–љ–Њ–Љ —Б–∞–≤–∞–љ–µ –Є —Б –Ї–Њ—Б–Њ–є. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –≤—Л–Ї–Њ—Б–Є–ї–∞! –Ъ—В–Њ –µ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В? –Э–µ—В —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є–ї—Л. –Т–µ—А—Г—О—Й–Є–µ —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –љ–∞—А–Њ–і, –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–≤—И–Є–є —Ж–∞—А—П –Є –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–≤—И–Є–є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –Њ—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –С–Њ–≥–∞ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ —Б–≤–Њ–µ–љ—А–∞–≤–Є–µ, –Ј–∞ –Њ—В—Е–Њ–і –Њ—В –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–µ–є, –њ—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М—О –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Э–µ –Ј–љ–∞—О, —В—Г—В –≤—Б–µ –љ–µ —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ, –Є –Љ–љ–µ –µ—Й–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –Є —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В—М—Б—П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –ѓ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, –Ї–∞–Ї–Є–µ –≤–Ї—Г—Б–љ—Л–µ –±–Њ—А—Й–Є –Є –Ї–∞–≤–∞—А–і–∞–Ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –Р–љ–љ–∞, –Ї–∞–Ї–Њ–є —А—Г–Љ—П–љ–Њ–є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–∞—Б—М –ґ–∞—А–µ–љ–∞—П –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–∞ —Г –°–≤–µ—В–ї–∞–љ—Л. –Р–љ–љ–∞ –µ—Й–µ –Є —И–Є–ї–∞, –≤—Б—О —Б–µ–Љ—М—О –Њ–±—И–Є–≤–∞–ї–∞. –£ –љ–µ–µ —Н—В–Њ –і–∞–ґ–µ –ї—Г—З—И–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, —З–µ–Љ —Г –Љ–∞—В–µ—А–Є. –®–≤–µ–є–љ–∞—П –Љ–∞—И–Є–љ–Ї–∞ ¬Ђ–Ч–Є–љ–≥–µ—А¬ї —Б–ї—Г—И–∞–ї–∞—Б—М –µ–µ, –Ї–∞–Ї –≤—Л—И–Ї–Њ–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б–Њ–±–∞–Ї–∞ —Б–ї—Г—И–∞–µ—В—Б—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞. –ѓ –Љ–Њ–≥ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–≥–Њ, –љ–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞ –Ї—А—Г–ґ–Є—В—М—Б—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Г –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є —Б–µ—Б—В–µ—А –њ—А–Њ—В–Є–≤ –і–∞—В—Л —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤—В–Њ—А–∞—П –і–∞—В–∞, –і–∞—В–∞ –Є—Е —Г—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є, –±—Л–ї–Є, –±—Л–ї–Є. –Р —В–µ–њ–µ—А—М –Є—Е –љ–µ—В, –љ–µ—В, –љ–µ—В. –Ш —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л —А–∞–Ј –Є—Е –љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ –Љ–Њ–µ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, —Н—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ—П–ї–Њ. –Р —П –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П, –±–µ–ї—Л–є —Б–≤–µ—В –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї –Ї–Њ –Љ–љ–µ —Б–≤–Њ—О —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Э–Њ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ, –Є —П –љ–µ —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –ґ–Є–≤. –Ц–Є–Ј–љ—М –±–µ–Ј –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤ —В—П–≥–Њ—Б—В—М, –Є —П –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї —Н—В–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–Њ–є.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –£—В—А–Њ–Љ —П —Б–≤–∞—А–Є–ї —Б–µ–±–µ –Ї–∞—И—Г –њ–µ—А–ї–Њ–≤—Г—О, –њ–Њ–Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–∞–ї, –Ї–Є–≤–љ—Г–ї –і–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г, –њ–Њ—Б—В—Г—З–∞–ї—Б—П –Ї –і—П–і–µ –°–Є–і–Њ—А—Г, –њ—А–Њ—Б—В–Є–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ вАУ –Є –њ–Њ—И–µ–ї. –Ъ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Љ–љ–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є. –ѓ –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї, –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ, —З—В–Њ –Љ–µ–љ—П –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—В –њ–Њ–µ–Ј–і, –Є–і—Г—Й–Є–є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Т—Б–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–µ —Б—В–Њ–ї–њ–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ, –Є —Г–µ—Е–∞—В—М –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ. –Э–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –±—Л –љ–µ –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М? –Т–Њ–Ї–Ј–∞–ї –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ, –±–Є–ї–µ—В–Њ–≤ –љ–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і –љ–µ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є. –Ы—О–і–Є —Б–љ–Њ–≤–∞–ї–Є —В—Г–і–∞-—Б—О–і–∞; –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ —Б–µ—А–Љ—П–ґ–љ–Њ—Б—В—М. –С–Њ–ї–µ–ї–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞, –Є –µ–µ –Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –Ј–∞–њ—Г—Б—В–µ–љ–Є–µ. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ–µ–Ј–і, –µ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї–∞ —В–∞–Ї–∞—П —В–Њ–ї–њ–∞, —З—В–Њ –Ї –љ–µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є—Б–љ—Г—В—М—Б—П. –Т–Њ—В –Њ–њ—П—В—М –њ–Њ–і–∞–ї–Є —Н—И–µ–ї–Њ–љ. –Х–≥–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥–Њ–ї–Њ—Б–∞—П —В–Њ–ї–њ–∞. –Ъ—Г–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞? –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, –љ–Њ –≤—Б–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—В–Є—Б–љ—Г—В—М—Б—П –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л–Љ –і–≤–µ—А—П–Љ. –Ґ–µ–Љ, –Ї—В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ–Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ –Є –њ–Њ–њ–ї–µ—З–Є—Б—В–µ–є, —Н—В–Њ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –ї—Г—З—И–µ. –ѓ –љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –≤—Л—В—П–≥–Є–≤–∞–ї. –Я—А–Њ—И–ї–Њ –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞, —Н—И–µ–ї–Њ–љ –≤—Б–µ —Б—В–Њ—П–ї. –Ш —З–∞—Б –њ—А–Њ—И–µ–ї вАУ —Н—И–µ–ї–Њ–љ –љ–Є —Б –Љ–µ—Б—В–∞. –ѓ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї –Є –≤–і—А—Г–≥ —А–µ—И–Є–ї—Б—П вАУ –Ј–∞—И–∞–≥–∞–ї –њ–Њ —И–њ–∞–ї–∞–Љ. –Э–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Ј–∞—И–∞–≥–∞–ї, –≤ —В—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –≥–і–µ –њ–Њ —Г—В—А–∞–Љ –≤—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ. –Я–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –Њ—В —Н—В–Њ–є —Б—Г–µ—В—Л –±–µ—Б–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–љ–Њ–є. –Я–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –Њ—В –±–µ—Б–њ—А–Є–Ј–Њ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б —П–≤–љ—Л–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ: —Б–≤–Њ–є —П, –Є–ї–Є –Љ–∞–Љ–µ–љ—М–Ї–Є–љ —Б—Л–љ–Њ–Ї? –£–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—В—М –Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ—Л–Љ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є —П –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Я–Њ —И–њ–∞–ї–∞–Љ, –њ–Њ —И–њ–∞–ї–∞–Љ! –®–Є—А–Є–љ–∞ –Љ–Њ–µ–≥–Њ —И–∞–≥–∞ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —А–∞–≤–љ—П–ї–∞—Б—М —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Љ–µ–ґ–і—Г —И–њ–∞–ї–∞–Љ–Є. –Э–∞ —А–µ–ї—М—Б–∞—Е –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –Љ–∞—А–Ї—Г –Ј–∞–≤–Њ–і–∞-–Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П: ¬Ђ–У. –Ф–µ–Љ–Є–і–Њ–≤—К, 1912 –≥.¬ї –Я–µ—А–µ–і —Б–∞–Љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є, –љ–Њ–≤—Л–µ! –Ю—В –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–Њ–ї–њ—Л –Є –Ї—Г—В–µ—А—М–Љ—Л —П –Њ–±–Њ—Б–Њ–±–Є–ї—Б—П –Њ—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А–Њ. –Ю–і–Є–љ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л–є —Б—В–Њ–ї–± –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—В–Њ—А–Њ–є, —В—А–µ—В–Є–є. –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і –Ь–Є–љ—Б–Ї, –µ–≥–Њ –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї—Л —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—В –Љ–µ–љ—П –і–Њ–ї–≥–Њ. –Э–Њ –≤–Њ—В –Ь–Є–љ—Б–Ї –Њ—В–і–∞–ї–Є–ї—Б—П, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ј–∞ –Љ–Њ—О —Б–њ–Є–љ—Г —Б–њ—А—П—В–∞–ї—Б—П. –Я—А–Њ—Й–∞–є, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і!¬† –Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –љ–∞ —В–≤–Њ–Є—Е —Г–ї–Є—Ж–∞—Е, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ —В—Л –љ–µ —А–∞–Ј–≤–µ–ї —Г —Б–µ–±—П –і–Є–Ј–µ–љ—В–µ—А–Є—О. –Ф–Є–Ј–µ–љ—В–µ—А–Є—П –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–∞ –Њ–і–љ—Г —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Г –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞ –і—А—Г–≥—Г—О, —З–Є—Б—В—Г—О. –Ю–і–Є–љ —П –Є –±—Г–і—Г —Н—В—Г —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Г –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П—В—М. –ѓ –љ–µ –Ј–љ–∞—О, —Г–≤–Є–і–Є–Љ—Б—П –ї–Є –Љ—Л —Б–љ–Њ–≤–∞, –∞ –µ—Б–ї–Є —Г–≤–Є–і–Є–Љ—Б—П, —В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞? –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л, –љ–Њ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–∞–і–Њ, —З—В–Њ–±—Л —П —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б—В–∞–ї —Б–µ–±–µ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–Љ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ш–і—В–Є –±—Л–ї–Њ –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —В—А—Г–і–љ–Њ. –Ґ–µ–њ–ї–Њ, –њ—А–Є–≤–Њ–ї—М–љ–Њ, –њ—В–Є—З–Ї–Є —Й–µ–±–µ—З—Г—В, —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –≤—Б–µ –њ—А–∞–≤–µ–µ. –ѓ –љ–µ —Б–њ–µ—И—Г, –љ–Њ –Є –љ–µ –Љ–µ–і–ї—О. –Ц–∞–ї–Ї–Њ, —З–∞—Б–Њ–≤ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ—В. –Р —Г –Љ–∞—В—Г—И–Ї–Є –±—Л–ї–Є. –Ч–љ–∞—З–Є—В, —П –Є—Е –љ–µ –љ–∞—И–µ–ї. –С—Г–і—Г –њ–Њ —Б–Њ–ї–љ—Л—И–Ї—Г –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П вАУ —З—В–Њ –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞-—З–∞—Б? –Ь–љ–µ –Њ–љ–Є –±–µ–Ј —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Л. –°–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ вАУ –њ–Њ–ї–і–µ–љ—М. –°–Њ–ї–љ—Ж–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –њ—Г—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Њ–Љ –Є –≤—Л—Б—И–µ–є —В–Њ—З–Ї–Њ–є вАУ –і–µ–≤—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞. –°–Њ–ї–љ—Ж–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –њ—Г—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –≤—Л—Б—И–µ–є —В–Њ—З–Ї–Њ–є –Є –Ј–∞–Ї–∞—В–Њ–Љ вАУ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–≥–Њ. –†–∞–Ј–±–µ—А—Г—Б—М! –Т–Њ—В –Є –њ–Њ–ї—П –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Є—Б—М, —Б –ї–µ—Б–∞–Љ–Є –≤–њ–µ—А–µ–Љ–µ–ґ–Ї—Г. –Т —Н—В–Є –ї–µ—Б–∞ –µ—Й–µ —А–∞–љ–Њ –Ј–∞ –≥—А–Є–±–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, —В—Г—В –≤—Б–µ –≥—А–Є–±—Л –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ–µ –њ—А–Є–±—А–∞–ї–Є. –Р –і–∞–ї—М—И–µ –≥—А–Є–±—Л –Є —П–≥–Њ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –ї–µ—Б—Г, —Б—В–∞–љ—Г—В –Љ–Њ–Є–Љ–Є. –Ґ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤—Г—О—В, –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–Љ –Є—Е –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Я–Њ–ї–і–µ–љ—М. –°–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О –≤ –ї–µ—Б–Њ–Ї –Є –Њ—В–і—Л—Е–∞—О. –Я–µ—А–ї–Њ–≤—Г—О –Ї–∞—И—Г, –Є–Ј –і–Њ–Љ–∞ –≤–Ј—П—В—Г—О, –і–Њ–µ–і–∞—О. –Р –љ–∞ –≤–µ—З–µ—А —З—В–Њ? –•–ї–µ–±—Г—И–µ–Ї –±–µ–Ј –љ–Є—З–µ–≥–Њ? –Т —Б–µ–ї–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г—В—М, –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Є –Є —Б–∞–ї–∞ –њ—А–Є–Ї—Г–њ–Є—В—М? –Ч–∞–≤—В—А–∞ —В–∞–Ї –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї—О. –•–Њ—В—П, –љ–µ –ґ–∞–ї—Г—О—В –љ–∞—Б, –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е, –≤ –Ј–і–µ—И–љ–Є—Е —Б–µ–ї–∞—Е. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, –Ј–∞—А–∞–Ј–љ—Л–µ –Љ—Л. –Э–∞–і–Њ –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –Њ—В–Њ–є—В–Є, —В–∞–Љ –љ–∞—А–Њ–і –і–Њ–±—А–µ–µ. –С–µ—А–µ–Ј–∞ вАУ –Ї–∞–Ї–Њ–µ –Љ–Є–ї–Њ–µ –і–µ—А–µ–≤–Њ! –Ы–µ–ґ–Є—И—М –њ–Њ–і –љ–Є–Љ, –∞ –Њ–љ–Њ —И–µ–њ—З–µ—В —В–µ–±–µ –љ–∞ —Г—Е–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ. –Э–Є –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г –љ–µ —Г–Љ–Њ–ї–Ї–∞–µ—В. –Т–µ—В—А–∞, –≤—А–Њ–і–µ –±—Л, –љ–µ—В, –∞ –±–µ—А–µ–Ј–∞ –љ–µ —Г–Љ–Њ–ї–Ї–∞–µ—В. –Т –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —И–µ–њ—В—Г–љ—Л –љ–µ—Г–Љ–Њ–ї—З–љ—Л–µ, —Г—З–Є—В–µ–ї—М –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –њ–∞—А—В—Л –Њ—В—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї, –∞ —В–Њ –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –Є–Ј –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –≤—Л–њ—А–Њ–≤–∞–ґ–Є–≤–∞–ї: —Б—В—Г–њ–∞–є—В–µ –≤–Њ –і–≤–Њ—А –Є —В–∞–Љ –ї—П–ї—П–Ї–∞–є—В–µ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ!
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –ѓ –ї–µ–ґ—Г –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ, –∞ –љ–µ–±–∞ –љ–µ –≤–Є–ґ—Г. –Т—Б–µ –±–µ—А–µ–Ј—Л, –≤—Б–µ –≤–µ—В–Њ—З–Ї–Є –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–µ. –Х—Б–ї–Є –±—Л —П –њ–Њ–і —Б–Њ—Б–љ–∞–Љ–Є –ї–µ–ґ–∞–ї, –≤—Б–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л. –Х—Б–ї–Є –і–Њ–ґ–і—М –њ–Њ–є–і–µ—В, –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В –Љ–µ–љ—П —В–∞–Ї–∞—П –Ї—А–Њ–љ–∞ –Є–ї–Є –љ–µ—В? –Ф–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В—М. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –њ–∞–њ–∞ –љ–µ —Б –љ–∞–Љ–Є? –®–µ—Б—В–µ—А–Њ –љ–∞—Б —Г –љ–µ–≥–Њ, –∞ –Њ–љ –≤–Ј—П–ї –Є –Њ—В –љ–∞—Б –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П. –Х—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ –±—Л–ї —Б –љ–∞–Љ–Є, –±–µ–і–∞ –Њ–±–Њ—И–ї–∞ –±—Л –љ–∞—И –і–Њ–Љ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є. –Э—Г—В—А–Њ–Љ —З—Г—О, –Њ–±–Њ—И–ї–∞ –±—Л!¬† –Ю–љ –±—Л –њ–Њ–і—Б—Г–µ—В–Є–ї—Б—П –≤–Њ-–≤—А–µ–Љ—П, –Є –Љ—Л –±—Л —Г–µ—Е–∞–ї–Є –Њ—В –±–µ–і—Л –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ. –Ш–ї–Є –±—Л –Њ—В –≤—Б–µ—Е –Њ—В—К–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М, –Є –Ї –љ–∞–Љ –Ј–∞—А–∞–Ј–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–Ї—А–∞–ї–∞—Б—М –±—Л.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Я–∞—Б—В—Г—Е –Ї–Њ—А–Њ–≤–Њ–Ї –њ—А–Њ–≥–љ–∞–ї –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г. –•–ї–Є–њ–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–Њ–≤–Ї–Є, –љ–µ –≥–ї–∞–і–Ї–Є–µ. –Ю–љ–Є –њ–Њ–Љ—Л—З–∞–ї–Є –Є –Ј–∞–Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Љ–Њ—А–і–∞–Љ–Є –≤ —В—А–∞–≤–Ї—Г —Б–≤–µ–ґ—Г—О —В–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ —В–∞–Ї —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞, —З—В–Њ –ї–µ—В–Њ –љ–∞ –≤—Б–µ –њ—А–Њ –≤—Б–µ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В, –∞ –Ј–Є–Љ–∞ —Н—В–Є –Ј–∞–њ–∞—Б—Л –њ—А–Њ–µ–і–∞–µ—В? –Ч–Є–Љ–Њ–є —Г –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–µ –і–µ–ї–∞ –Є –Ј–∞–±–Њ—В—Л, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –ї–µ—В–Њ–Љ. –Ф–∞–і—Г—В –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–∞–Љ –Ј–µ–Љ–ї—О –Є–ї–Є –љ–µ –і–∞–і—Г—В? –Я–Њ–Ї–∞ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–і–љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Љ –љ–∞—А–Њ–і –і–∞–≤—П—В, –Є –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ. –Р —В—Л, —А–∞–Ј —В—Л —В–µ–њ–µ—А—М —Е–Њ–Ј—П–Є–љ —Б—В—А–∞–љ—Л, –Ї—Г–њ–Є —Г –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ–∞, —З—В–Њ —В–µ–±–µ –љ–∞–і–Њ. –Ґ–∞–Ї –≤–Њ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–Њ, –Є –≤—Б–µ–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ. –Э—Г, —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –≤ –љ–µ—Г—А–Њ–ґ–∞–є–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –љ–µ—Е–≤–∞—В–Ї–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ы–µ–ґ—Г —П, –і—Г–Љ–∞—О –њ—А–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–µ. –Э–∞–і–Њ –љ–∞ —А–Њ–і–љ–Є—З–Њ–Ї –љ–∞–±—А–µ—Б—В–Є, –љ–∞–њ–Є—В—М—Б—П. –Ш –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г —Б –њ—А–Њ–±–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–і–Њ–±—Л—В—М –љ–∞–і–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ–і—Г –њ—А–Є —Б–µ–±–µ –Є–Љ–µ—В—М. –Ф–Њ–Љ–∞ –±—Г—В—Л–ї–Њ–Ї —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–Њ —В–∞–Љ —П –њ—А–Њ –≤–Њ–і—Г –љ–µ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї. –І—В–Њ, —Е–≤–∞—В–Є—В –њ—А–Њ—Е–ї–∞–ґ–і–∞—В—М—Б—П? –Э–∞–і–µ–≤–∞—О –Ї–Њ—В–Њ–Љ–Ї—Г –Є –Є–і—Г –Ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –Я—П—В—М-—И–µ—Б—В—М –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤, –Є —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П. –І—В–Њ–±—Л –њ–Њ–µ–Ј–і–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –≥–і–µ —А–∞–Ј—К–µ—Е–∞—В—М—Б—П. –Ю–і–Є–љ –њ–Њ–µ–Ј–і –ґ–і–µ—В –≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –і—Г–µ—В –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –њ–∞—А–∞—Е –Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. –£ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–Њ–Љ–Є–Ї–Є —Б–Њ–ї–Є–і–љ—Л–µ, –Є–Ј –ґ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є—А–њ–Є—З–∞, –њ–Њ–і —З–µ—А–µ–њ–Є—Ж–µ–є. –Я—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ –ґ–Є–≤—Г—В вАУ —А–∞–±–Њ—З–∞—П –Ї–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–∞. –Э–µ–±–Њ—Б—М, —В–Њ–ґ–µ —Б –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є. –•–Њ—В—П, –Є–Љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–ї–Њ—Е–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –С–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є, –≤–Ј—П–≤—И–Є –≤–ї–∞—Б—В—М, –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ–Љ –њ—А–Є —Б—В–∞—А–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –±—Л–ї–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –≤—Б–µ–Љ, –Ї–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ, –±—Г–і–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ш –Љ—Л –ґ–і–µ–Љ –љ–µ –і–Њ–ґ–і–µ–Љ—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ —Б—В–∞–љ–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И–Њ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —П —Б–Љ–Њ—В—А—О, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ —Б –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—В –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є. –° –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є. –Т–Њ—В —Н—В–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ! –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–Љ—Г –љ–∞–і–Њ, –і–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –і–Њ–і—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –µ–≥–Њ –љ–∞—В—Г—А–µ —Б–≤–Њ—О –≤—Л–≥–Њ–і—Г —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М. –£–ґ–µ –Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П, –Ї—А—Л–ї—М—П —Г –љ–Є—Е –Є –њ—А–Њ–њ–µ–ї–ї–µ—А. –Э–µ –њ—В–Є—Ж—Л, –љ–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ–µ. –Р —Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–µ –љ–µ—В —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б –∞–Ї—Г–ї–Њ–є –Є–ї–Є –і–µ–ї—М—Д–Є–љ–Њ–Љ? –Р —Г –Ї–Є–љ–Њ —Б —З–µ–Љ –µ—Б—В—М —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ, —Б –Ї–љ–Є–≥–Њ–є? –Э–µ—В, —Н—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–є, –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є –≤–Є–і –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞. –Ґ–∞–Љ –љ–µ –±—Г–Ї–Њ–≤–Ї–Є, —В–∞–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–Љ—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –ѓ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ—Г –µ—Й–µ –Њ–і–љ—Г —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –Є –≤–Є–ґ—Г, —З—В–Њ –њ–Њ—А–∞ –њ–Њ–Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П –Њ –љ–Њ—З–ї–µ–≥–µ. –Т –ї–µ—Б—Г –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Є–ї–Є –Ї –ї—О–і—П–Љ –≤ –і–Њ–Љ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ—Б—В—Г—З–∞—В—М—Б—П? –Я–Њ–њ—А–Њ–±—Г—О –≤ –ї–µ—Б—Г –њ–µ—А–µ–љ–Њ—З–µ–≤–∞—В—М. –°—В–µ—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —П, —З—В–Њ–±—Л –Ї –ї—О–і—П–Љ –љ–∞ –љ–Њ—З–ї–µ–≥ –њ—А–Њ—Б–Є—В—М—Б—П. –Я–µ—А–µ—Б–Є–ї–Є–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П –љ–∞–і–Њ. –І—Г–ґ–Є–µ –Љ–љ–µ –ї—О–і–Є, –Ї –Ї–Њ–Љ—Г —П –њ—А–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –±—Г–і—Г? –Я–ї–Њ—Е–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–Њ—З—М—О, —В–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞ —П —Г–ґ–µ –њ–µ—А–µ—Б–Є–ї—О —Б–µ–±—П –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—И—Г—Б—М. –†—Г—З–µ–є —П —Г–≤–Є–і–µ–ї, –∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ–µ. –Ґ—А–∞–≤–∞ —Б–Ї–Њ—И–µ–љ–љ–∞—П –ї–µ–ґ–Є—В, —Б—Г—И–Є—В—Б—П. –Т –љ–µ–µ –Є –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г—Б—М. –Р –њ–Њ–Ї–∞ —Е–≤–Њ—А–Њ—Б—В–∞ –љ–∞–±–µ—А—Г, –і–ї—П –Ї–Њ—Б—В—А–∞. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ —П –њ—А–Њ—И–µ–ї –Ј–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П? –Ъ–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –њ—П—В—М —Г–ґ —В–Њ—З–љ–Њ –њ—А–Њ—И–µ–ї. –Ш–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ? –Э–Њ–≥–Є –≥—Г–і—П—В, –љ–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г, —З—В–Њ –≤—Л–Љ–Њ—В–∞–ї—Б—П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ъ–Њ—Б—В–µ—А –≥–Њ—А–Є—В, –∞ –≤–∞—А–Є—В—М –Љ–љ–µ –љ–µ—З–µ–≥–Њ. –Я–Њ–µ–ї —Е–ї–µ–±—Г—И–Ї–∞, –Ј–∞–њ–Є–ї –µ–≥–Њ —Б—Л—А–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є. –Э–µ –љ–∞–µ–ї—Б—П. –Р–њ–њ–µ—В–Є—В, –Ї–∞–Ї —Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞. –Я—А–Њ—Е–ї–∞–і–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—П–ї–Њ, –∞ —Г –Њ–≥–Њ–љ—М–Ї–∞ —В–µ–њ–ї–Њ. –Ш –Ї–Њ–Љ–∞—А—Л –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –Ї –Њ–≥–љ—О –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ—В–∞—О—В, –Ї—А—Л–ї—Л—И–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є –±–µ—А–µ–≥—Г—В. –ѓ –љ–∞–і–µ–≤–∞—О –µ—Й–µ –Њ–і–љ—Г —А—Г–±–∞—И–Ї—Г, —В–∞–Ї –ї—Г—З—И–µ. –°–≤–Є—В–µ—А–Њ–Ї –љ–∞–і–µ–љ—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–њ–∞—В—М –ї—П–≥—Г, –Є –љ–Њ—Б–Ї–Є —И–µ—А—Б—В—П–љ—Л–µ. –Р –њ–∞–ї—М—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О, –Ї–∞–Ї –Њ–і–µ—П–ї–Њ. –Ґ—А–∞–≤–∞ вАУ –Љ–∞—В—А–∞—Ж, –њ–∞–ї—М—В–Њ вАУ –Њ–і–µ—П–ї–Њ. –Ъ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞ вАУ –њ–Њ–і—Г—И–Ї–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–µ–є –Љ–∞–ї–Њ —З–µ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П. –Т–Њ—В —Н—В–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л! –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Є –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ –љ–∞–і –љ–∞–Љ–Є —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і. –†–Њ—Б—Б—Л–њ–Є –Ј–≤–µ–Ј–і. –Т—Б–µ –љ–µ–±–Њ –Є—Б–Ї—А–Є—В-–њ–µ—А–µ–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ–љ–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–љ–Њ–µ. –°–Њ–ї–љ—Ж–µ —В–Њ–ґ–µ –Ј–≤–µ–Ј–і–∞, –Є –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ –ґ–Є–Ј–љ—М. –Э–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В –ї–Є —Н—В–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–ї–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Ј–≤–µ–Ј–і —В–Њ–ґ–µ —Б–≤–Њ—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –Њ—В –љ–∞—Б —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–∞—П? –Ь—Л –њ–Њ–Ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ, –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞–µ–Љ—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.¬† –Ь—Л –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–Љ –°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П –Ј–∞ —Б–≤–µ—В –Њ—В —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –Є –Ј–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –ѓ –µ—Й–µ –њ–Њ—Б–Є–і–µ–ї —Г –Ї–Њ—Б—В—А–∞. –Я–ї–∞–Љ—П –Њ–њ–∞–ї–Њ, –Є —П –ї–µ–≥ –љ–∞ –Ї–Њ–њ–љ—Г —Б—Г—Е–Њ–є —В—А–∞–≤—Л, –њ–∞–ї—М—В–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–Ї—А—Л–ї—Б—П. –Р —З—В–Њ? –Ш –Љ—П–≥–Ї–Њ, –Є –љ–µ –њ–Њ–і–і—Г–≤–∞–µ—В –љ–Є–Њ—В–Ї—Г–і–∞. –Ч–∞—Б–љ—Г–ї —Б—А–∞–Ј—Г, –∞ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ –≤ –ї–Є—Ж–Њ –ї—Г–љ–∞ —Б–≤–µ—В–Є—В—М —Б—В–∞–ї–∞. –Я–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –±–Њ–Ї, —Г–Ї—А—Л–ї—Б—П –њ–Њ–ї—Г—З—И–µ –Є –Њ–њ—П—В—М –Ј–∞—Б–љ—Г–ї. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П, –Ј–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М —Г—В—А–Њ. –Э–µ–±–Њ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –±—Л—Б—В—А–Њ —А–Њ–Ј–Њ–≤–µ–ї–Њ, –∞ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л –њ–Њ–≥–∞—Б–ї–Є, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –і–љ—О. –ѓ –њ–Њ–ґ–µ–≤–∞–ї —Е–ї–µ–±–∞, –љ–∞–њ–Є–ї—Б—П, –±—Л—Б—В—А–Њ —Б–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –Є –њ–Њ—И–µ–ї. –Ґ–µ–њ–µ—А—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї–µ—Б–∞ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є, –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї—П —Б –њ—И–µ–љ–Є—Ж–µ–є, —А–Њ–ґ—М—О –Є–ї–Є –Њ–≤—Б–Њ–Љ, –Є –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ вАУ –Њ–≥–Њ—А–Њ–і—Л —Б –Ї–∞–њ—Г—Б—В–Њ–є –Є –ї—Г–Ї–Њ–Љ, –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї–µ–Љ –Є –Њ–≥—Г—А—Ж–∞–Љ–Є. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Є –љ–∞ –≥—А—П–і–Ї–∞—Е –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –Њ–і–љ–∞ –±–Њ—В–≤–∞.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Т –і–µ—А–µ–≤–љ—О –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О —П —Б–≤–µ—А–љ—Г–ї, –Є –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ —П –Љ–Њ–≥—Г –Ї—Г–њ–Є—В—М —Б–∞–ї–∞. –Ґ–µ—В—П –Ь–∞—А—Д–∞, –і–Њ—А–Њ–і–љ–∞—П –Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—Й–µ–Ї–∞—П, –±—Л–ї–∞ —В–∞–Љ —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–Њ–є. –Х–є –±—Л–ї–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –Ї—В–Њ —П —В–∞–Ї–Њ–є –Є –Ї—Г–і–∞ –њ—Г—В—М –і–µ—А–ґ—Г, –Є —П –≤—Б–µ –µ–є –≤—Л–ї–Њ–ґ–Є–ї, —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї –µ–µ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В—Б—В–≤–Њ. –Ю–љ–∞ –њ–Њ–Њ—Е–∞–ї–∞, –њ–Њ—Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞, –Ј–∞ —Е–ї–µ–± –Є —Б–∞–ї–Њ –і–µ–љ—М–≥–Є –≤–Ј—П–ї–∞, –љ–Њ —А–∞–Ј–∞ –≤ —В—А–Є –Љ–µ–љ—М—И–µ –≤–Ј—П–ї–∞, —З–µ–Љ –µ—Б–ї–Є –±—Л —П —Н—В–Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л –Ї—Г–њ–Є–ї –≤ –Ь–Є–љ—Б–Ї–µ, –∞ –Ј–∞ –Ї—А—Л–љ–Ї—Г –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞ –і–µ–љ–µ–≥ –љ–µ –≤–Ј—П–ї–∞. –Ш —В–≤–Њ—А–Њ–≥–∞ –і–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ, –≤ —З–Є—Б—В—Г—О —В—А—П–њ–Њ—З–Ї—Г –µ–≥–Њ –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞. –Ш –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г —З–Є—Б—В—Г—О –і–∞–ї–∞, –і–ї—П –≤–Њ–і—Л. –Ф–Њ–±—А—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Љ–µ–љ—П –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ вАУ —З—В–Њ–±—Л —П —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ –Њ–±–∞ –Є –Њ—В –і—Г—А–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –і—Г—А–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –≤ —Н—В—Г —Б—А–∞–Љ–љ—Г—О –њ–Њ—А—Г —А–∞–Ј–≤–µ–ї–Њ—Б—М –≤–Є–і–Є–Љ–Њ-–љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ. –Ш —П –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –≥–і–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ –±–µ—Б–њ—А–Є–Ј–Њ—А–љ—Л—Е, –Љ–љ–µ –ї—Г—З—И–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В—М. –Э–Њ –Ї–∞–Ї? –Э–µ –Ј–љ–∞—П –Њ–±—Е–Њ–і–љ—Л—Е –і–Њ—А–Њ–≥, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –Ј–∞–њ–ї—Г—В–∞—В—М.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –ѓ –њ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–ї —В–µ—В—О –Ь–∞—А—Д—Г, –∞ –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –і–Њ–ї–≥–Є–Љ, –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ. –Ц–∞–ї–µ–ї–∞. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –њ—А–Њ –і–µ—В–µ–є —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Є —Г –љ–Є—Е –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л—В—М —В–∞–Ї–∞—П –ґ–µ —Г—З–∞—Б—В—М. –Ш —П —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–µ, —Б–љ–Њ–≤–∞ –Є–і—Г –≤–њ–µ—А–µ–і. –Р —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –Љ–љ–µ –≤ —Б–њ–Є–љ—Г —Б–≤–µ—В–Є—В –Є –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–Њ–і–≥–Њ–љ—П–µ—В, —В–Њ—А–Њ–њ–Є—В. –Э–∞ –ї—Г–≥—Г –ї—О–і–Є, —В—А–∞–≤—Г –Ї–Њ—Б—П—В. –Ъ–Њ—Б—Л —В–∞–Ї –Є –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—О—В, –Њ—Б—В—А–Є—П —Г –љ–Є—Е –±–µ–ї—Л–µ. –ѓ –Є–і—Г –і–∞–ї—М—И–µ, –∞ –ї—Г–≥ –љ–µ –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П, –Є –ї—О–і–Є –≤—Б–µ –Ї–Њ—Б—П—В, –Ї–Њ—Б—П—В. –Р –Ј–∞—В–µ–Љ —Б—В–∞–ї–Є —З–µ—А–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–ї—П —Б –њ—И–µ–љ–Є—Ж–µ–є –Є —А–Њ–ґ—М—О –Є –њ–Њ–ї—П –њ—Г—Б—В—Л–µ, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–і –њ–∞—А вАУ —З—В–Њ–±—Л –љ–∞–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Є—П. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —П —В–∞–Ї –њ–Њ–љ—П–ї –њ—А–Њ —Н—В–Є –њ—Г—Б—В—Л–µ –њ–Њ–ї—П, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –≤ –Є–Ј–±—Л—В–Ї–µ: –Њ—В–±–µ—А—Г—В, —П–Ї–Њ–±—Л –≤–Њ –Є–Љ—П –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ—Л, –Є –і–∞–ґ–µ —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г—В. –Р ¬Ђ—Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ¬ї —А–∞–Ј–≤–µ –њ–Њ–ї–љ–∞—П –њ–ї–∞—В–∞ –Ј–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ? –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ, —Б—Л—В –љ–µ –±—Г–і–µ—И—М. –Я–ї–∞—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П –≤ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–Љ –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є. –Т —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–Љ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–Љ –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –°–њ–∞—В—М –Њ–њ—П—В—М –ї–Њ–ґ—Г—Б—М –љ–∞ –ї—Г–≥—Г. –Т–µ—В–µ—А, –Є –Ї–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤ –Љ–∞–ї–Њ. –Т–µ—В–µ—А –Ї–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤ –Ј–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В. –Ъ–Њ–Љ–∞—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А—П–і–Њ–Љ, –ґ—Г–ґ–ґ–∞—В –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ. –Ч–∞—В–Њ –Њ—В –≤–µ—В—А–∞ –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–∞. –Э–Є—З–µ–≥–Њ, –Њ–і–µ–ґ–і—Л –љ–∞ –Љ–љ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –°–љ—Л –Љ–љ–µ –љ–µ —Б–љ—П—В—Б—П вАУ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г? –Э–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –ї–Є, —З—В–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В–∞—О? –Ч–љ–∞—З–Є—В, —Г—Б—В–∞–≤—И–µ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –љ–µ –і–Њ —Б–љ–Њ–≤. –Я–Њ—Г—В—А—Г —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤ –њ—Г—В—М. –°—В–∞–љ—Ж–Є—П –Ц–Њ–і–Є–љ–Њ, –і–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—Й–∞—П! –Ш –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –≥—Г–ґ–µ–≤–∞—П вАУ —В–Њ–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–µ, –љ–µ –Љ–Є–Љ–Њ. –®–∞–≥–∞—О –њ–Њ —И–њ–∞–ї–∞–Љ. –Т–Њ–Ї–Ј–∞–ї –Њ–±—Е–Њ–ґ—Г –њ–Њ –і–∞–ї—М–љ–Є–Љ –њ—Г—В—П–Љ, –Ј–∞ —В–Њ–≤–∞—А–љ—Л–Љ–Є –≤–∞–≥–Њ–љ–∞–Љ–Є –њ—А—П—З—Г—Б—М, —З—В–Њ–±—Л –Ї–Њ –Љ–љ–µ —И–њ–∞–љ–∞ —А–∞–Ј–љ–∞—П –љ–µ –њ—А–Є–ї–Є–њ–ї–∞. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ—А–Њ—И–µ–ї. –Я–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і –њ—А–Њ—В–µ–ї–µ–њ–∞–ї—Б—П, –Љ–љ–µ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г. –Я–Њ–ї–љ—Л–є-–њ–Њ–ї–љ—Л–є, –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –Ї—А—Л—И–∞—Е –љ–∞—А–Њ–і–µ—Ж —О—В–Є—В—Б—П, –Є –љ–∞ –і–≤–µ—А–љ—Л—Е –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Ї–∞—Е. –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –Ї–∞–Ї –†–Њ—Б—Б–Є—П, –њ–µ—А–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –љ–∞–Є–≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–µ –і–µ–ї–Њ. –≠—В–Њ, –Ї–∞–Ї –Ї—А–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї—А–Њ–≤—Г—И–Ї–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В, –Ї—Г–і–∞ –љ–∞–і–Њ, –љ–µ –Ј–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –≤—Б–µ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –Є —Б–Є–ї —Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Е–Њ—В—М –Њ—В–±–∞–≤–ї—П–є.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –С–∞, –∞ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –±—Л –Љ–љ–µ –≤ —В–Њ–≤–∞—А–љ—П–Ї –љ–µ –Ј–∞–ї–µ–Ј—В—М? –Т —В–Њ—В, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј –њ–Њ–і–∞–љ? –°—В–Њ–Є—В —В–∞–Ї–Њ–є —В–Њ–≤–∞—А–љ—П–Ї, –љ–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л вАУ –љ–µ –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–Є—И—М—Б—П. –Р –µ—Б–ї–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л –≤–Љ–µ—Б—В–µ? –Я–Њ–і—Е–Њ–ґ—Г, –≥–Њ–≤–Њ—А—О: ¬Ђ–Ф—П–і–µ–љ—М–Ї–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —П —Б –≤–∞–Љ–Є?¬ї –Ъ—Г–і–∞ —В–∞–Љ! –Ф–µ–ї–∞—О—В –≤–Є–і, —З—В–Њ –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞—В, –Є–ї–Є –≥–Њ–љ—П—В —Б—А–∞–Ј—Г. –Я—А–Є –љ–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Њ–љ–Є —Б –њ–Њ–ї—П–Ї–∞–Љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є. –Э–Њ –Ј–ї—Л–µ –Њ–љ–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ–Њ–ї—П–Ї–Є –Є–Љ –≤–ї–Њ–Љ–Є–ї–Є: –љ–µ —Б—Г–є—В–µ—Б—М –Ї –љ–∞–Љ, –Љ—Л –љ–µ –≤–∞—И–Є! –Ш –С—Г–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–ї–Њ–Љ–Є–ї–Є, –Є –Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤—Г, –Є –С–ї—О—Е–µ—А—Г —Б –Ґ—Г—Е–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ. –Р –≤–Њ—В –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є —П –љ–µ –Ј–љ–∞—О. –Ь–Є—А–Њ–≤—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О –Я–Њ–ї—М—И–∞ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—О —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–Њ–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–∞, –Є —В–Њ—З–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Ы–µ–љ–Є–љ—Г –Є –Ґ—А–Њ—Ж–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б —Н—В–Є–Љ —Б–Љ–Є—А–Є—В—М—Б—П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Я—А–Њ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є. –Ы–µ–ґ–Є—В –Є —Г–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–µ—В—Б—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –Њ—В–Ї–ї—О—З–Є–ї–∞—Б—М. –Р —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±–µ–Ј –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Є –і—Г–Љ–∞—О—Й–µ–є –Є —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–є –Є –љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤–Њ–≤—Б–µ, –∞ —В–∞–Ї, –љ–µ–і–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є–µ. –°–∞–Љ—Л–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –≤—А–∞—З–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –І—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –Њ–±–µ–і? –У—А–Є–±–Њ–≤ –љ–∞—Б–Њ–±–Є—А–∞–ї вАУ –њ–Њ–і–Њ—Б–Є–љ–Њ–≤–Є–Ї–Є, —Б—Л—А–Њ–µ–ґ–Ї–Є, –±–µ–ї—Л–µ. –Ш —А—Л–ґ–Є–Ї–Є –µ—Б—В—М. –°–≤–∞—А—О. –•–ї–µ–± –µ—Й–µ –µ—Б—В—М, —Б–∞–ї–∞ —И–Љ–∞—В–Њ–Ї вАУ –µ—Б–ї–Є –њ–Њ –Ї—Г—Б–Њ—З–Ї—Г –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј, –љ–∞ –љ–µ–і–µ–ї—О —Е–≤–∞—В–Є—В. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –£ —А—Г—З—М—П вАУ –њ—А–Є–≤–∞–ї. –Ъ–∞—Б—В—А—О–ї—О —Б –≤–Њ–і–Њ–є вАУ –љ–∞ –Њ–≥–Њ–љ–µ–Ї, –≥—А–Є–±–Њ—З–Ї–Є –њ–Њ–Ї–Є–њ–µ–ї–Є –Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –њ—Г—Б—В—М –Њ—Б—В—Л–љ—Г—В. –У–Њ—А–±—Г—И–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М, –љ–µ –≤—Б—О —Б–ї–Њ–њ–∞—О вАУ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г. –Э–Њ —Б —Б–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –Є —Б –≥—А–Є–±–∞–Љ–Є. –Я–Њ–µ–Љ, –њ–Њ–≥–ї–∞–ґ—Г —Б–µ–±—П –њ–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В—Г вАУ –Є –≤ –њ—Г—В—М.
                                                                                      111
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ъ—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –Љ–µ—Б—В–∞. –І—В–Њ –њ–Њ–ї—П, —З—В–Њ –ї–µ—Б–∞ вАУ –њ—А–Є–≤–Њ–ї—М–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ. –Т –≥–Њ—А–∞—Е, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –≤—Б–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–µ. –£—Й–µ–ї—М—П —В–∞–Љ —Б—Г–Љ–µ—А–µ—З–љ—Л–µ, —Б–Ї–ї–Њ–љ—Л –Ї—А—Г—В—Л–µ, –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ, –Є —А–µ–Ї–Є –љ–µ —В–µ–Ї—Г—В, –∞ –±–µ–≥—Г—В. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Ї—А—Г—В–Є–Ј–љ–∞ —В–∞–Љ –±–Њ–ї—М—И–∞—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А—О –Є –љ–∞ –≥–Њ—А—Л. –І–µ—А–µ–Ј —Б–µ–ї–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ—Г. –Х—Й–µ —Б–µ–ї–Њ. –°–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б–∞–і–Є—В—Б—П. –ѓ –њ—А–Њ—И—Г—Б—М –њ–µ—А–µ–љ–Њ—З–µ–≤–∞—В—М, –Є —Б–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–∞ –Љ–љ–µ –Ї–Є–≤–∞—О—В: ¬Ђ–Ф–Њ–±—А–Њ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М!¬ї
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —П –≤ –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –Э—Г, –Њ—Е–Є, –∞—Е–Є. –Ь–µ–љ—П –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї —Б–∞–ґ–∞—О—В, –њ–Њ—В—З—Г—О—В. –Э–µ –∞—Е—В–Є –Ї–∞–Ї–∞—П –µ–і–∞ —Г —Н—В–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –µ–і–∞. –ѓ –і–µ—А–ґ—Г—Б—М –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —А–µ–±—П—В–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–Є —Б–≤–µ—А—Б—В–љ–Є–Ї–Є. –Э–∞ –Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ—В–≤–µ—З–∞—О, —Б–∞–Љ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О –њ—А–Њ –Ј–і–µ—И–љ–µ–µ –ґ–Є—В—М–µ-–±—Л—В—М–µ. –Ю–љ–Њ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –≤–µ–Ј–і–µ. –°–њ–∞—В—М –Є–і—Г –љ–∞ —Б–µ–љ–Њ–≤–∞–ї, –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–µ—Б–љ—П—О. –£—В—А–Њ–Љ –µ–Љ –њ–Є—А–Њ–ґ–Ї–Є —Б –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Њ–є, –∞ –њ—П—В—М —И—В—Г–Ї –Љ–љ–µ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –і–∞—О—В. –Ч–∞–±–Њ—В—П—В—Б—П. –ѓ –љ–Є–Ј–Ї–Њ –Ї–ї–∞–љ—П—О—Б—М, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О —Е–Њ–Ј—П–µ–≤ –Ј–∞ –і–Њ–±—А–Њ—В—Г –Є –≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ—Б—В–≤–Њ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ш–і—Г, –∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Б–≤–µ—В–Є—В. –Ф–µ—А–ґ—Г—Б—М –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є. –Т–і–Њ–ї—М –љ–µ–µ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ—Л–µ —Б—В–Њ–ї–±—Л вАУ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г –ї—О–і–µ–є –љ–Њ—З—Г–µ—И—М. –Ф–Њ–ґ–і—М –љ–Њ—З—М—О –Ј–∞–Ї–∞–њ–∞–ї, –∞ –љ–∞–і —В–Њ–±–Њ–є –Ї—А—Л—И–∞. –Т–µ—Б—М –і–µ–љ—М –Є–і—Г вАУ –≤—В—П–љ—Г–ї—Б—П. –Ф–љ–µ–Љ –њ–Њ–µ–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –∞ –љ–µ –ї–µ–ґ–∞–ї, –љ–µ –Њ—В–і—Л—Е–∞–ї. –Ф–Њ–ґ–і—М –њ–Њ—И–µ–ї, –љ–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї. –Ґ—А–∞–≤–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –Љ–Њ–Ї—А–∞—П, –Є –љ–Њ–≥–Є —П –њ—А–Њ–Љ–Њ—З–Є–ї. –Э–Є—З–µ–≥–Њ, –љ–µ —Б–∞—Е–∞—А–љ—Л–є. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –≤ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—М–Ї–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞ –љ–Њ—З–ї–µ–≥ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П. –Ь–µ–љ—П –≤ —Б–∞—А–∞–є –Њ—В–≤–µ–ї–Є, –≥–і–µ —Б–µ–љ–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –љ–∞—Б—З–µ—В –µ–і—Л —А—Г–Ї–∞–Љ–Є —А–∞–Ј–≤–µ–ї–Є: —Б–∞–Љ–Є –Є–Ј–≥–Њ–ї–Њ–і–∞–ї–Є—Б—М. –Я—А–Њ–і—А–∞–Ј–≤–µ—А—Б—В–Ї–∞! –Э–Њ –Ј–∞—З–µ–Љ –ґ–µ –њ–Њ–і—З–Є—Б—В—Г—О –≤—Б–µ –≤—Л–Љ–µ—В–∞—В—М, –ї—О–і–µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–µ–±—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М?
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Я–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ —П –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Є –њ—А–Є–Ї—Г–њ–Є–ї. –Ф–µ–љ—М–≥–Є —Г –Љ–µ–љ—П –µ—Б—В—М, –љ–Њ –ї—О–і–Є –±—Л–≤–∞–ї—Л–µ –Њ—В –љ–Є—Е –љ–Њ—Б –≤–Њ—А–Њ—В—П—В. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≥–Њ—А–Њ–і –Њ–±—П–Ј–∞–љ —Б–µ–ї—Г –Ј–∞ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л –њ–Є—В–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–є —В–Њ–≤–∞—А –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М вАУ —В–Ї–∞–љ–Є, –Њ–і–µ–ґ–і—Г, —Г—В–≤–∞—А—М —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Г—О. –Р –≥–Њ—А–Њ–і —В–Њ–≤–∞—А–∞ –љ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В, –Є —Н—В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ–њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї. –Ч–∞–≤–Њ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В—М –љ–∞—А–Њ–і—Г, –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В. –Ш –љ–∞—А–Њ–і –≤ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–Є–Є: –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —В–∞–Ї? –≠—В–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–∞—А–Њ–і—Г –љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—А–Њ–і —Б–∞–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –і–µ–љ—М–≥–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–Њ–≤–∞—А–Њ–Љ –љ–µ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ—Л вАУ –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї–Є, –Є —Ж–µ–љ–∞ –Є–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–∞—П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Т–Њ–Ј–ї–µ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞ вАУ —А–µ–Ї–∞. –ѓ –≤—Л–Ї—Г–њ–∞–ї—Б—П, –њ–Њ–Ј–∞–≥–Њ—А–∞–ї, —А—Г–±–∞—И–Ї—Г, –±—А—О–Ї–Є –њ–Њ—Б—В–Є—А–∞–ї, –љ–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –њ–Њ–≤–µ—Б–Є–ї. –•–Њ—А–Њ—И–∞—П —А–µ–Ї–∞, —З–Є—Б—В–∞—П. –Ш–Ј–≤–Є–ї–Є—Б—В–∞—П. –ѓ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, —З—В–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є —А–µ–Ї–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –≤–Њ–і–Є—В—М—Б—П —А–∞–Ї–Є, –Є –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–і–µ–ґ–і–∞ –Љ–Њ—П —Б—Г—И–Є–ї–∞—Б—М, –њ–Њ–ї–∞–Ј–Є–ї –≤–і–Њ–ї—М –±–µ—А–µ–≥–∞, –њ–Њ—Й—Г–њ–∞–ї –і–љ–Њ. –Ф–Њ—Б—В–∞–ї —Б –і–µ—Б—П—В–Њ–Ї —А–∞–Ї–Њ–≤. –Э–µ –≤—Л—В–µ—А–њ–µ–ї –Є —В—Г—В –ґ–µ —Б–≤–∞—А–Є–ї –Є—Е. –®–µ—Б—В—М —Б—К–µ–ї, —З–µ—В—Л—А–µ –љ–∞ —Г–ґ–Є–љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї. –Т–Њ—В –≤–Ї—Г—Б–љ—П—В–Є–љ–∞! –°–≤–Є–љ–Є–љ–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–∞–Ї–∞—П. –Ъ–∞—А—В–Њ—И–Ї—Г —В–Њ–ґ–µ —Б–≤–∞—А–Є–ї, –Ї–∞–Ї –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї —А–∞–Ї–∞–Љ. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –њ–Њ–ї–і–љ—П –њ—А–Њ–≤–µ–ї —Г —А–µ–Ї–Є. –Т–Њ—В –≥–і–µ —А–∞–Ј–і–Њ–ї—М–µ! –Ь–Њ–ґ–µ—В, –Ј–∞–љ–Њ—З–µ–≤–∞—В—М –Ј–і–µ—Б—М, –µ—Й–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є—В—М —А–∞–Ї–Њ–≤? –Э–µ—В, –љ–∞–і–Њ –Є–і—В–Є.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ш —П –Є–і—Г вАУ –і–∞–ї—М—И–µ, –і–∞–ї—М—И–µ, –і–∞–ї—М—И–µ. –Я–µ—А–µ–љ–Њ—З–µ–≤–∞–ї –≤ —Б—В–Њ–≥—Г —Б–µ–љ–∞, –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є –љ–∞–њ—А—П–≥–∞—В—М –љ–µ —Б—В–∞–ї. –£—В—А–Њ–Љ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Б–µ–±—П: –∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –і–µ–љ—М? –≠–і–∞–Ї —П —Б–Ї–Њ—А–Њ —Б–Њ —Б—З–µ—В–∞ —Б–Њ–±—М—О—Б—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–µ–љ—М –≤ –њ—Г—В–Є. –Ъ–∞—А—В–Є–љ—Л –Љ–µ–љ—П —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—В –њ–Њ—З—В–Є –Њ–і–љ–Є –Є —В–µ –ґ–µ: –ї–µ—Б–∞ –Є –њ–Њ–ї—П, –њ–Њ–ї—П –Є –ї–µ—Б–∞. –•–Њ–ї–Љ–Њ–≤ –Љ–∞–ї–Њ, –њ—А–Є–≥–Њ—А–Ї–Њ–≤, –Є–Ј–і–∞–ї–µ–Ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л—Е вАУ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ. –†–∞–≤–љ–Є–љ–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є —А–µ–Ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Л–µ. –Ш–љ–Њ–є —А–∞–Ј –љ–µ —Б—А–∞–Ј—Г —Г–≤–Є–і–Є—И—М, –≤ –Ї–∞–Ї—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≤–Њ–і–∞ —В–µ—З–µ—В.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э–Њ—З—Г—О —Г —В–µ—В–µ–љ—М–Ї–Є –Њ–і–љ–Њ–є, –Ф–∞—А—М—П –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–љ–∞ –µ–µ –Ј–Њ–≤—Г—В. –Ь—Г–ґ–∞ –µ–µ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж—Л —Г–±–Є–ї–Є. –І–µ—В–≤–µ—А–Њ –і–µ—В–µ–є —Г –љ–µ–µ, —Б—В–∞—А—И–Є–є, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А, –і–≤—Г–Љ—П –≥–Њ–і–Є–Ї–∞–Љ–Є –Љ–µ–љ—П —Б—В–∞—А—И–µ. –Т—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –Њ–љ –Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–є, —Б –ї–Њ—И–∞–і–Ї–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П. –£ –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –і–≤–µ –ї–Њ—И–∞–і–Є, –љ–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–∞, –∞ –Њ–і–љ—Г –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –і–ї—П —Б–≤–Њ–Є—Е –љ—Г–ґ–і —А–µ–Ї–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є. –Ч–∞–±—А–∞–ї–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М. –Ш —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї—Г –і–∞–ї–Є, —З—В–Њ –ї–Њ—И–∞–і—М —Н—В–∞ –Ј–∞—Б—З–Є—В–∞–љ–∞, –Ї–∞–Ї –љ–∞–ї–Њ–≥. –Ю–љ–Є –Љ–µ–љ—П –њ—А–Њ –Ь–Є–љ—Б–Ї —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є, –Є —П –Є–Љ –≤—Б–µ –≤—Л–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ –Ј–љ–∞–ї. –°–∞—И–∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Г—З–Є—В—М—Б—П –≤ —Н—В–Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і –њ–Њ–µ–і–µ—В. –Э–Њ —Н—В–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—Б—П. –Х—Б–ї–Є –љ–µ –љ–∞–і–Њ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞ —Г—З–µ–±—Г –њ–ї–∞—В–Є—В—М вАУ –њ–Њ–µ–і–µ—В, –∞ –µ—Б–ї–Є –љ–∞–і–Њ, —В–Њ–≥–і–∞ —З—В–Њ –ґ? –Ґ–Њ–≥–і–∞ –њ—Г—Б—В—М –і—Г—А–≥–Є–µ —Г—З–∞—В—Б—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є—В—М.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э–Њ—З—М—О —П —Б—А–∞–Ј—Г –љ–µ –Ј–∞—Б—Л–њ–∞—О, –і—Г–Љ–∞—О. –Т–Є–ґ—Г: –Љ–Є—А –љ–µ –±–µ–Ј –і–Њ–±—А—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –Т–Њ—В, –Ф–∞—А—М—П –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–љ–∞, –°–∞—И–∞ –µ–µ —В–µ–њ–ї–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–µ–љ—П –Њ–і–∞—А–Є–ї–Є –Є –Њ–±–Њ–≥—А–µ–ї–Є. –Ш–і—Г –µ—Й–µ –і–µ–љ—М. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ вАУ –С–∞—А–∞–љ—М, –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Р—А–і–Њ–≤, –∞ –Ј–∞ –љ–Є–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –Ю—А—И–∞. –£–Ј–ї–Њ–≤–∞—П —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П, —В–∞–Ї —З—В–Њ –њ–Њ–є—В–Є –Љ–љ–µ –љ–∞–і–Њ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ —В–Њ–є –Ї–Њ–ї–µ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї –Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є–і–µ—В. –°—В—А–Њ–≥–Њ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Є –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї. –°–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А—Г—О—Б—М, —Н—В–Њ –љ–µ —В—А—Г–і–љ–Њ. –У–і–µ —Б–µ–≤–µ—А, –≥–і–µ —О–≥ –Є –≥–і–µ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ вАУ –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї. –Т –Ю—А—И–µ –±–µ—Б–њ—А–Є–Ј–Њ—А–љ—Л–µ –Љ–µ–љ—П –Њ–±—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є, –њ–∞–ї—М—В–Њ –Љ–Њ–µ, –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ–µ, –Є–Ј—К—П–ї–Є, –∞ –Љ–љ–µ –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ –Њ–і–µ—П–ї—М—Ж–µ —Е–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–і—Б—Г–љ—Г–ї–Є. –°–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є: ¬Ђ–Э—Г, —З–µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –≥–ї—П–і–Є—И—М? –Э–µ –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј–љ–µ—И—М! –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є, —З—В–Њ –±–µ–Ј –љ–Є—З–µ–≥–Њ —В–µ–±—П –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є, –≥–Њ–ї—Л–Љ –≤ –Р—Д—А–Є–Ї—Г –љ–µ –њ—Г—Б—В–Є–ї–Є!¬ї –ѓ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї —Н—В–Њ–≥–Њ –Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ –љ–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї. –Ф–µ–љ—М–≥–Є –Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ –њ—А–Є –Љ–љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Х—Й–µ –і–≤–∞ –і–љ—П, –Є —П –Є–і—Г –њ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —П —Г–ґ–µ –≤ –њ—Г—В–Є? –Я—А–Є–Ї–Є–і—Л–≤–∞—О –Є –≤–Є–ґ—Г, —З—В–Њ —Б–±–Є–ї—Б—П —Б–Њ —Б—З–µ—В–∞. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ —Б–њ—А–Њ—И—Г, –Ї–∞–Ї–Њ–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —З–Є—Б–ї–Њ, —В–Њ–≥–і–∞ –Є –њ–Њ–і—Б—З–Є—В–∞—О, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –Љ–Њ–µ–Љ—Г –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—О. –Ш –њ—А–Њ –і–µ–љ—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ј–∞–±—Л–ї. –Р —Б –Ї–µ–Љ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞—В—М? –° —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б–Њ–±–Њ–є. –Ш–і—Г –і–∞–ї—М—И–µ. –Ш–і—Г вАУ –Є–і—Г вАУ –Є–і—Г вАУ –Є–і—Г! –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї –≤–њ–µ—А–µ–і–Є. –Ш —П —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ —А–µ–Ї–µ –Ф–љ–µ–њ—А –Ї—Г–њ–∞—О—Б—М, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –≤—Е–Њ–ґ—Г. –Р –≤ –Ю—А—И–µ —П –≤ –Ф–љ–µ–њ—А–µ –љ–µ –њ–Њ–њ–ї–∞–≤–∞–ї, –Є–Ј-–Ј–∞ –±–µ—Б–њ—А–Є–Ј–Њ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї–∞—П–љ–љ—Л—Е. –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї вАУ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і, —Б —Ж–µ—А–Ї–≤–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Ї–µ. –Э–Њ –Ь–Є–љ—Б–Ї –ї—Г—З—И–µ. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –ї—Г—З—И–µ, —З—В–Њ —В–∞–Љ –≤—Б–µ –Љ–Њ–µ, –≤—Б–µ —А–Њ–і–љ–Њ–µ. –≠—В–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ –љ–∞–і–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є—В—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Њ —А–Њ–і–љ—Л–Љ —Б—В–∞–ї–Њ? –Э–µ –Ј–љ–∞—О, —В—Г—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–∞–Љ —А–µ—И–∞–µ—В. –Я—А–Є–Ї–Є–њ–µ–ї –і—Г—И–Њ–є –Ї –Љ–µ—Б—В—Г, –Є –Њ–љ–Њ —В–≤–Њ–µ, –Ї—А–Њ–≤–љ–Њ–µ. –Р –љ–µ –њ—А–Є–Ї–Є–њ–µ–ї, –Є –Њ–љ–Њ —В–µ–±–µ —Б–±–Њ–Ї—Г —Б –њ—А–Є–њ–µ–Ї—Г.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –°–Њ–±–Њ—А —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–µ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є. –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –Т —Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є вАУ —Н—В–Њ —З—В–Њ, –њ—А–Є –Ш–≤–∞–љ–µ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–Љ? –ѓ –Њ–±–Њ—И–µ–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ –Ї—А—Г–≥—Г, –Њ–љ —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є. –С–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є: ¬Ђ–С–Њ–≥–∞ –љ–µ—В!¬ї –Э–Њ –Ї—В–Њ —Б –љ–Є–Љ–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П? –Ь–∞–ї–Њ –Ї—В–Њ. –Ь–∞—В—М –Љ–Њ—П –Є —Б–µ—Б—В—А—Л –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є—Б—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ –Є—Е –Њ—В –±–µ–і—Л –љ–µ —Г–±–µ—А–µ–≥–ї–Њ. –Ш –≤–Њ—В —П –Є–і—Г –і–∞–ї—М—И–µ –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ, –∞ –Њ–љ–Є –Љ–∞–ї–Њ —З–µ–Љ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Њ—В –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е. –†–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—М–Ї–Є –≤—Б—В—А–µ—З–љ—Л–µ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ–њ—А–Є–Ї–∞—П–љ–љ—Л–µ, –љ–µ—А—П—И–ї–Є–≤—Л–µ, –Є –Ї–Њ—А–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞ –ї—Г–≥–∞—Е –±–Њ–ї–µ–µ —Е—Г–і—Л–µ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –ѓ –Є–і—Г, –њ–Њ—З—В–Є –≤–µ—Б—М —Б–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–є –і–µ–љ—М –љ–∞ –љ–Њ–≥–∞—Е. –Э–Њ—З—Г—О —Г –і–Њ–±—А—Л—Е –ї—О–і–µ–є, —Н—В–Њ —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –і–∞ –Ї–Њ—А–Љ–µ–ґ–Ї–∞. –Ш –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–∞. –Ю—З–µ–љ—М —Е–Њ—З—Г –≤—Л—А–∞—Б—В–Є –Є –і–Њ–±—А—Л–Љ —Б—В–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ–±—А–Њ, –Љ–љ–µ –≤—Л–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М —В–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Њ —Б–Њ–≥—А–µ–µ—В, –∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –љ–∞ –њ—Г—В—М –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В. –Ґ—Г—Д–µ–ї—М–Ї–Є –Љ–Њ–Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Ј–ї–Є—Б—М, —В–∞–Ї —З—В–Њ —П –Є—Е –≤ –Ї–Њ—В–Њ–Љ–Ї—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї вАУ –≤¬† –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –љ–∞–і–µ–љ—Г. –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ, –≥–і–µ —П –љ–Њ—З–µ–≤–∞–ї, –Љ–љ–µ –ї–∞–њ—В–Є –і–∞–ї–Є вАУ –љ–µ –љ–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Є–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –ѓ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї: ¬Ђ–Т–Њ—В, –≤ –ї–∞–њ—В—П—Е —П –µ—Й–µ –љ–µ —Е–Њ–і–Є–ї!¬ї –Р –љ–∞–і–µ–ї вАУ –Љ—П–≥–Ї–Њ, —Г–і–Њ–±–љ–Њ. –Э–Є —Б—Г—З–Ї–∞, –љ–Є –Ј–∞–і–Њ—А–Є–љ–Ї–Є! –Э–Њ–ґ–Ї–Є –ї–∞–њ—В–Є –Њ–±—К–µ–Љ–ї—О—В —З–µ—Б—В—М –њ–Њ —З–µ—Б—В–Є. –Э–µ –±—Г–і—М —Н—В–Њ–≥–Њ, –љ–∞—А–Њ–і –±—Л –Њ—В –љ–Є—Е –і–∞–≤–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П. –Ш –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Є–Ј –ї—Л–Ї–∞ –ї–∞–њ—В–Є, –і–∞ –љ–µ –ї—Л–Ї–Њ–Љ —И–Є—В—Л. –Ш–і—В–Є –≤ –ї–∞–њ—В—П—Е —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –±–Њ—Б–Є–Ї–Њ–Љ. –Ш –Њ—В –Ј–µ–Љ–ї–Є —Е–Њ–ї–Њ–і –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–µ—В, –Є –Ї–∞–Љ—Г—И–Ї–Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –љ–µ –Ј–∞—П–≤–ї—П—О—В –Њ —Б–µ–±–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Є–≥–Њ–ї–Ї–Є.
–І–µ–Љ –і–∞–ї—М—И–µ, —В–µ–Љ —П –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –ї—О–і—П–Љ –і–µ—А–ґ—Г—Б—М, –≤ –ї–µ—Б–∞—Е –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –љ–Њ—З—Г—О. –Э–µ —А–Њ–і–љ—Л–µ –Њ–љ–Є –Љ–љ–µ, –∞ –≤—Б–µ –ґ–µ –ї—О–і–Є, –Є –і–Њ–±—А—Л—Е —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –љ–µ–і–Њ–±—А—Л—Е. –Э—Г, –Њ–±–Њ–±—А–∞–ї–Є –Љ–µ–љ—П –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –Њ–±–Њ—А–≤–∞–љ—Ж—Л, —В–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –њ–∞–ї—М—В–Њ –њ–Њ–Ј–∞—А–Є–ї–Є—Б—М. –Ч–љ–∞–ї–Є –±—Л –Њ–љ–Є –њ—А–Њ –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–є –Љ–µ—И–Њ—З–µ–Ї, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–і –Ї–Њ–ї–µ–љ–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤—П–Ј–∞–љ! –Ю–≥–Њ, –њ–Њ–ї–њ—Г—В–Є —Г–ґ–µ –µ—Б—В—М, –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ. –ѓ—А—Ж–µ–≤–Њ —П –њ—А–Њ—И–µ–ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ –°–∞—Д–Њ–љ–Њ–≤–Њ.
–Т—П–Ј—М–Љ–∞ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є. –Э—Г, –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ! –° –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–Ј—П—В—М —В–µ–±—П, –Т—П–Ј—М–Љ–∞? –Т—Б–µ —А–µ–ї—М—Б—Л –Є —А–µ–ї—М—Б—Л. –Ф–≤–µ —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–і–љ–∞, –Ї–∞–Ї –љ–Є—В–Њ—З–Ї–∞ —Б–µ—А–∞—П. –Я–Њ–µ–Ј–і–∞ –Є–і—Г—В, –Ї–Њ –Љ–љ–µ –Є–ї–Є –Њ—В –Љ–µ–љ—П, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —З–∞—Б—В–Њ. –Я–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј –њ—Л—Е—В–Є—В, –≤–∞–≥–Њ–љ—Л —Б—В—Г—З–∞—В –љ–∞ —Б—В—Л–Ї–∞—Е. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–Њ —Б–≤–Њ–µ ¬Ђ—В—Г–Ї-—В—Г–Ї¬ї –і–µ–ї–∞–µ—В, –і–∞ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ! –Т–Њ—В –±—Л —Б—В–∞—В—М –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Њ–Љ! –Р –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А–Њ–Љ вАУ —Г–≥–Њ–ї–µ–Ї –≤ —В–Њ–њ–Ї—Г –±—А–Њ—Б–∞—В—М? –Э–µ—В, –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Њ–Љ –±—Л—В—М –ї—Г—З—И–µ: —Б–Љ–Њ—В—А–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і, –∞ –Ј–µ–Љ–ї—П —В–µ–±–µ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г—В –љ–µ—Б–µ—В—Б—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —В–µ–ї–µ–≥–µ –µ–і–µ—И—М, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–Њ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –ѓ –Њ–њ—П—В—М –Є–і—Г, –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–і—Г. –Т—П–Ј—М–Љ–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і –У–ґ–∞—В—Б–Ї –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –У–ґ–∞—В—М. ¬Ђ–†–µ–Ї–∞ –У–ґ–∞—В—М, —А–µ–Ї–∞ –У–ґ–∞—В—М —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П —А–Њ–ґ–∞—В—М!¬ї –≠—В–Њ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Є —В–∞–Љ–Њ—И–љ–Є–µ –≥–Њ—А–ї–∞–љ–Є–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –Ї—Г–њ–∞–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ. –Р –Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–ґ–∞—В—М? –†—Л–±–Ї—Г –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О? –ѓ —Г–Ї–Њ—А–Є–ї —Б–µ–±—П –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ —А—Л–±–∞–Ї, –љ–µ –≤–Ј—П–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Ї—А—О—З–Ї–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А—Л–±–Ї–∞ –ї–Њ–≤–Є—В—Б—П. –Э–∞–ї–Њ–≤–Є–ї –±—Л —А—Л–±–Ї–Є, —Б–≤–∞—А–Є–ї –µ–µ вАУ —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї–∞—П —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ–∞—П –µ–і–∞! –°–∞–Љ–∞—П –≤–Ї—Г—Б–љ–∞—П –µ–і–∞.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Я–Њ—Б–ї–µ –У–ґ–∞—В—Б–Ї–∞ —П –Њ–њ—П—В—М –≤ –ї–µ—Б—Г –Ј–∞–љ–Њ—З–µ–≤–∞–ї, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј. –Э–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –Љ–љ–µ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—М–Ї–∞, –Љ–Є–Љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –њ—А–Њ—И–µ–ї –њ–µ—А–µ–і —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ. –С–µ–Ј–ї—О–і–љ–∞—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б—В–∞—А—Г—Е, –Є —В–µ –Ї–∞–Ї —В–µ–љ–Є. –ѓ —Б–Њ–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї—Б—П –Њ—В –Є—Е –≤–Є–і–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–Є–ї—Б—П. –Х—Й–µ –њ–Њ–Ј–∞—А—П—В—Б—П –љ–∞ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Љ–Њ–µ, –∞ –Љ–љ–µ —Н—В–Њ –љ–∞–і–Њ? –£–≤–∞—А–Њ–≤–Ї–∞, –∞ –Ј–∞ –љ–µ–є –Ь–Њ–ґ–∞–є—Б–Ї. –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞-—А–µ–Ї–∞ —В–µ—З–µ—В —З–µ—А–µ–Ј —Н—В–Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї. –ѓ –љ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П, –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –≤–Њ–і—Г, –њ–Њ–њ–ї–∞–≤–∞–ї. –Т–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —В–µ–њ–ї–∞—П, –њ–ї–∞–≤–∞–ї —П –і–Њ–ї–≥–Њ. –Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ! –Ь—Г–ґ–Є–Ї, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П –Ј–∞–љ–Њ—З–µ–≤–∞–ї, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В—Б—О–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї –Є –Њ—В–і–∞–ї –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ—Г –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–≥–љ–∞–ї –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –і–∞ —В–∞–Ї, —З—В–Њ —Г —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤ –њ–Њ–і–Љ–µ—В–Ї–Є –Ј–∞—Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї–Є. –Э–Њ –≥–Њ–ї–Њ–і –љ–µ —В–µ—В–Ї–∞, –Є —Е–Њ–ї–Њ–і –љ–µ —В–µ—В–Ї–∞, –Є –Њ–љ–Є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ —А—Г—З–Ї–Є –≤–≤–µ—А—Е –њ–Њ–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є. –Э–µ –Ј–∞—А—М—В–µ—Б—М, –љ–µ –Ј–∞—А—М—В–µ—Б—М –љ–µ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ! –ѓ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –Є —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б—В–µ–љ–∞ —И–ї–∞ –љ–∞ —Б—В–µ–љ—Г. –®—В—Л–Ї–Є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є, –њ—Г—И–Ї–Є —Б–Ј–∞–і–Є. –Я–∞–ї—М–±–∞, –і–Є–Ї–Є–є –Њ—А — –±–Є—В–≤–∞. –Т—Б–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ–±—Б—В–Њ—П–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї –Є–ї–Є –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–∞–Ї. –Р –Ї–∞–Ї?
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –ѓ —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Э–Њ —Н—В–Њ ¬Ђ–њ–Њ—З—В–Є¬ї —В—А–Є –і–љ—П –Ј–∞–љ—П–ї–Њ. –Т –і–≤—Г—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–і–≤–µ–Ј–ї–Є –љ–∞ —В–µ–ї–µ–≥–µ, –љ–Њ –Њ–±–∞ —А–∞–Ј–∞ –µ—Е–∞–ї —П –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ю—В –Њ–і–љ–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –і–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є, –Є –≤—Б–µ. –°—П–і—Г, –≤–Ј–і—А–µ–Љ–љ—Г, –∞ —Г–ґ–µ —Б—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞–і–Њ.¬† –Ш —П –Њ–њ—П—В—М –Є–і—Г. –Я—А–Є–≤—Л–Ї, –Є –Є–і—В–Є —Е–Њ—В—М –≤–µ—Б—М –і–µ–љ—М –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —Г–ґ–µ –љ–µ –≤ —В—П–≥–Њ—Б—В—М.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ш –≤–Њ—В –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і. –У–Њ—А–Њ–і, –њ—А–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—О. –°—В–Њ—О –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л-—А–µ–Ї–Є, —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ —Е—А–∞–Љ –•—А–Є—Б—В–∞-–°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П, –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ –љ–µ –≤–µ—А—О —Б–≤–Њ–Є–Љ: –≤–Њ—В —Н—В–Њ –њ—А–µ–ї–µ—Б—В—М! –Ш –≥—А–Њ–Љ–∞–і–Є–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ. –°–Љ–Њ—В—А—О, –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ—О. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Ъ—А–µ–Љ–ї—М –Њ–±—Е–Њ–ґ—Г –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ –Є —В–Њ–ґ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ—О. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О –љ–∞—А–Њ–і –њ—А–Њ —Г–ї–Є—Ж—Г –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї—Г—О. –Ю–љ–∞, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Њ—В —Е—А–∞–Љ–∞ –•—А–Є—Б—В–∞-–°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –Є –Њ—В –Ъ—А–µ–Љ–ї—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ. –Я–Њ–≤–Њ—А–Њ—В, –µ—Й–µ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В. –Х—Й–µ –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї. –Ш —П –Њ–±–љ–Є–Љ–∞—О –±—А–∞—В–∞ –°–µ—А–≥–µ—П –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Г —В–µ—В—О –Ы–µ–ї—О. –Ю–±–љ–Є–Љ–∞—О –Є –њ–ї–∞—З—Г –†–µ–≤—Г –њ—А—П–Љ–Њ. –°–Љ–Њ—В—А—О, –°–µ—А–≥–µ–є —В–Њ–ґ–µ —Б–ї–µ–Ј—Г —Б–Љ–∞—Е–Є–≤–∞–µ—В. –†–∞—Б—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї—Б—П.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† —¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ч–∞ —Б—В–Њ–ї! — –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г–µ—В –Њ–љ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Э–Њ —В–µ—В—П –Ы–µ–ї—П –≤–µ–ї–Є—В –Љ–љ–µ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤—Л–Ї—Г–њ–∞—В—М—Б—П, –≤–µ–і—А–Њ –≤–Њ–і—Л –Њ–љ–∞ —Г–ґ–µ —Б–Њ–≥—А–µ–ї–∞. –Т—Б—О –Љ–Њ—О –Њ–і–µ–ґ–і—Г –Њ–љ–∞ –њ—А–Є –Љ–љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–Є—А–∞–ї–∞ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ї–Њ—А—Л—В–µ. ¬Ђ–Ґ–µ–њ–µ—А—М —В—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї!¬ї — –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –≤—Л–Ї—Г–њ–∞–ї—Б—П. –Ш –Њ–±—А—П–ґ–∞–µ—В –Љ–µ–љ—П –≤ –°–µ—А–µ–ґ–Є–љ—Г —А—Г–±–∞—И–Ї—Г, –∞ —П –≤ –љ–µ–є —Г—В–Њ–њ–∞—О. –Т–µ–і—М –°–µ—А–≥–µ–є –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Є –Њ—З–µ–љ—М —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є. –ѓ –≥–Њ–≤–Њ—А—О, —З—В–Њ –≤ –Ь–Є–љ—Б–Ї–µ –Њ—В –Ґ–∞—В—Г—А–Њ–≤ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Ш –њ–µ—А–µ–і–∞—О –°–µ—А–µ–ґ–µ –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–є –Љ–µ—И–Њ—З–µ–Ї —Б –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є, —Б–µ—А—М–≥–∞–Љ–Є –Є –±—А–∞—Б–ї–µ—В–Њ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є —Б–µ—Б—В–µ—А. –Т—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј —Б–ї–µ–Ј—Л —З–µ—А—В—П—В –Є–Ј–≤–Є–ї–Є—Б—В—Л–µ –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Є –њ–Њ —В—Г–≥–Є–Љ –Є —А—Г–Љ—П–љ—Л–Љ —Й–µ–Ї–∞–Љ –±—А–∞—В–∞. –Ю–љ –Љ–Њ–ї—З–Є—В, –∞ —Б–ї–µ–Ј—Л –≤—Б–µ –Ї–∞–њ–∞—О—В, –Ї–∞–њ–∞—О—В, –Ї–∞–њ–∞—О—В…¬† –Ф–∞, –і–µ–љ—М–≥–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї –њ–Њ –њ–Њ—З—В–µ, –Њ–љ –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –° —Н—В–Њ–≥–Њ –і–љ—П —Г –Љ–µ–љ—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М. –Э–Њ–≤–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ю –љ–µ–є —П —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–≤–µ–і–∞—О, –љ–Њ –љ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б. –Р —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–Ї–∞–ґ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л, —В—А–Њ–µ –±—А–∞—В—М–µ–≤, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤—И–Є–µ –Ї–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –≤—Б–µ —Б—В–∞–ї–Є –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є –љ–∞—Г–Ї, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞–Љ–Є.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –°–µ—А–≥–µ–є –Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є—З –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ї–∞—Д–µ–і—А–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ, —В–∞–Љ –≤ –µ–≥–Њ —З–µ—Б—В—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ–∞—П –і–Њ—Б–Ї–∞. –ѓ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ —Б–ї—Г—И–∞–ї –µ–≥–Њ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ –≤—Б–µ—Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–і–Є–Њ –Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є –Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ вАУ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—И–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ –ґ–і–∞–ї–Њ –Ї–Њ—Б—Л–≥–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Д–Њ—А–Љ, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–љ–љ—Л –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є, –љ–Њ –Њ–љ–Є —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є—Б—М. –Ф–µ—В–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–µ–±—П –°–µ—А–≥–µ–є –Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є—З –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є—З –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ї–∞—Д–µ–і—А–Њ–є —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –≤ –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ. –Ґ–∞–Љ –≤ –µ–≥–Њ —З–µ—Б—В—М –Њ—В–Ї—А—Л—В –Љ—Г–Ј–µ–є, –њ—Г—Б—В—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є. –Ф–µ—В–µ–є —Г –љ–µ–≥–Њ –і–≤–Њ–µ вАУ —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П –Ѓ—А–Є–є –Є –Т–∞–і–Є–Љ. –Ѓ—А–Є–є —Б—В–∞–ї –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –љ–Є–≤–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В —З–Є—В–∞–ї –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –≤ –њ—А–µ—Б—В–Є–ґ–љ–Њ–Љ –С–∞—Г–Љ–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≤—Л—Б—И–µ–Љ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ (–љ—Л–љ–µ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В). –Т–∞–і–Є–Љ —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Д–µ—А–µ —А–∞–Ї–µ—В–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, –≥–і–µ –±—Л–ї¬† –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–є –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–Њ–є –Є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–Њ–Љ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –ѓ —Б—В–∞–ї –Ј–µ–Љ–ї–µ—Г—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–і–љ–Њ–Ї—Г—А—Б–љ–Є—Ж–µ –Х–ї–µ–љ–µ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–љ–µ –†–Є—Б—Б–ї–Є–љ–≥, –њ—А–Њ—И–µ–ї –≤–Њ–є–љ—Г –Њ—В –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ–∞ –і–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞-–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –С—А–µ—Б–ї–∞—Г, –Ј–∞—В–µ–Љ, —А–∞–±–Њ—В–∞—П –≤ –Ґ–∞—И–Ї–µ–љ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є—А—А–∞–≥–∞—Ж–Є–Є –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, –Ј–∞—Й–Є—В–Є–ї –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Б–Ї—Г—О –Є –і–Њ–Ї—В–Њ—А—Б–Ї—Г—О –Є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –Ї–∞—Д–µ–і—А—Г –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В. –Ю—В –±—А–∞—В—М–µ–≤ –і–Њ—А–Њ–≥–Є—Е –Є –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ—О –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е –љ–µ –Њ—В—Б—В–∞–ї. –Я–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г¬† –і–∞–ґ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї –Ј–∞—Ж–µ–њ–Њ—З–Ї—Г –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є: –≥–µ–љ—Л –µ—Б—В—М –≥–µ–љ—Л. –Ф–µ—В–µ–є —Г –Љ–µ–љ—П –і–≤–Њ–µ, —Б—Л–љ –Є –і–Њ—З—М. –°—Л–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–µ–±—П –љ–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –љ–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–њ—А–Є—Й–µ, –∞ –і–Њ—З—М –њ–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ –Љ–Њ–Є–Љ —Б—В–Њ–њ–∞–Љ вАУ —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –≤ –Є—А—А–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ. –Ч–∞—Й–Є—В–Є–ї–∞ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Б–Ї—Г—О –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О, –µ–є –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –і–Њ—Ж–µ–љ—В–∞. –Ь–Њ–Є –і–µ—В–Є –Є –Є—Е –і–µ—В–Є вАУ —Б–∞–Љ–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–µ –љ–∞—И–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –°–ї–Њ–≤–Њ —Б—Л–љ–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є—З–∞ вАУ –°–µ—А–≥–µ—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ґ–∞—В—Г—А–∞: ¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Њ—В—Ж–∞ (–Њ–љ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї —Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В –њ—П—В—М –ї–µ—В) –≤ –Є—А—А–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –љ–∞ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–µ –Ј–µ–Љ–ї–µ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —Б—В–Є–њ–µ–љ–і–Є—П –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –ї–Є –Њ–љ–∞ –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М вАУ –љ–µ –Ј–љ–∞—О. –Т 2007 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ —Б—В–Њ–ї–µ—В–љ–Є–є —О–±–Є–ї–µ–є –Њ—В—Ж–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Љ–Њ—П –Є–і–µ—П. –Э–Њ —Б—А–µ–і–Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞, –љ–∞ –љ–µ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е, –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б –љ–Є–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є. –Ф–≤–∞ –Є–ї–Є —В—А–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ю—В—Ж—Г —П –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї –њ—П—В—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤:¬† ¬Ђ–°–ї–Њ–≤–Њ –Њ–± –Њ—В—Ж–µ¬ї, ¬Ђ–Ф–Њ–ї–≥–Є–є –њ–µ—И–Є–є –њ—Г—В—М¬ї, ¬Ђ–Э—Г, —З—В–Њ, –њ–Є–ґ–Њ–љ, —Б—Л–≥—А–∞–µ–Љ?¬ї, ¬Ђ–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –С—А–µ—Б–ї–∞—Г¬ї –Є ¬Ђ–Х—Й–µ —А–∞–Ј –Њ–± –Њ—В—Ж–µ¬ї. –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Њ—В–µ—Ж —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г–µ—В –Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–Њ–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е¬ї.
–°.–Я. –Ґ–∞—В—Г—А